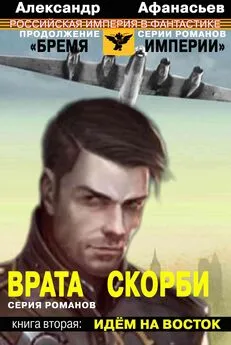Лев Вершинин - Идем на восток! Как росла Россия
- Название:Идем на восток! Как росла Россия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4438-0840-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Вершинин - Идем на восток! Как росла Россия краткое содержание
Поволжье, Урал, Сибирь Дальний восток. Эти регионы мы привыкли воспринимать как привычную и неотъемлемую часть России. Так было далеко не всегда. Россия стала Россией, вырвавшись за тесные пределы Московского княжества. Русские казаки, воины и землепроходцы, шли на Восток, чтобы создать великую империю, которая досталась нам в наследство от наших великих предков.
От Казани до далеких Ямала и Чукотки выросла наша страна всего за несколько столетий. Мы все слышали о колониальных империях европейских держав, но мало кто задумывался, что мы живем в стране, которая не просто смогла создать страну, занимающую 1/6 часть суши, но и удержать ее где грамотной политикой, где военной силой, а где России помог счастливый случай. Впервые, в простой и популярной форме, в этой книге рассказывается о том, как созидалась Империя.
Известный писатель, публицист и блогер Лев Вершинин известен как автор целого ряда остроплитических и научно-популярных книг. С его труда, который станет настоящим подарком для всех, кто интересуется русской историей, мы начинаем серию «Собирая Империю». Вас ждет подробный и увлекательный рассказ лучших авторов о том, как Россия, в огне войн, в железной поступи казачьих отрядов и в шепоте дипломатических миссий из европейской далекой окраины превращалась в величайшую Империю
Идем на восток! Как росла Россия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
О том, что с момента обнародования Указов за участие в мятежах, в какой бы форме оно ни выражалось, полагались жестокие наказания, говорить излишне. А чтобы сомнений не возникало, местному начальству было четко указано, что «бунтовщиков всякими мерами искоренять и жилища их разорять, а пойманных воров с подвориками… на страх другим, по своей воле на месте казнить смертию…» отныне не их право, а их долг и обязанность. Что и стали претворять в жизнь – Кирилов, похоже, с удовольствием, а Румянцев с чувством облегчения от того, что стало, наконец, ясно, что делать. А поминание «подвориков» и вовсе развязывало руки. Называя вещи своими именами, это был террор. Но террор обоюдный. Бунтовщики, терпя поражения, вымещали досаду на мирном населении, причем в масштабах, заслуживших отдельного рапорта в столицу («…воры многих доброжелательных башкир побили, домы их без остатку разорили»), «доброжелательные башкиры» и (особенно) «припущенники» из разоренных деревень отвечали им «оком за око». На этом фоне поведение регулярных войск выглядело очень даже прилично.
А нас-то за что?
Как и предполагалось, «метод Тевкелева» плюс (на основе тех же Указов) массовые казни в Мензелинске довольно быстро возымели должный эффект. Войск в крае скопилось много, счет «двухсотых» шел на тысячи (говорят, зашкалило за пять), и мятежники, осознав, что имеет место система, а не эксцессы исполнителя, впали в ступор. Сами они позволяли себе многое, но оправдывали себя «священной войной», а вот реакция русских их поразила. Живя бок о бок уже почти два века, они не предполагали, что те способны действовать таким образом. Раньше, даже при Петре, гибли едва ли сотни, ни о каких массовых репрессиях речи не было, под честное слово отпускали даже пленных, взятых на поле боя, а вешали по итогам десяток-другой «пущих заводчиков», крымских агитаторов и отморозков, запятнавших себя кровью мирного населения. Теперь же шанс уцелеть был только у сложивших оружие. И то далеко не у всех: право на жизнь нужно было еще доказать. Понять, что случилось, вожаки бунта не могли. «Кажется мне, – писал Бепене его коллега-мулла Юлай, один из лидеров мятежа на Осинской дороге, – Аллах подменил русских или лишил их разума. Они ведут себя не как русские, и это внушает страх». Судя по всему, он был прав: после кровавой весны 1736 года активность бунтовщиков пошла на убыль, и к осени на четырех дорогах наступил затишье. Десятки старшин из числа «упорных» (вроде Кильмяк-Абыза), распустив отряды, поехали присягать, «непримиримые» типа Бепени куда-то сгинули, а Тевкелев, отложив саблю, занялся основанием Орска и Челябинска. После чего многие решили, что все кончено.
А между тем это самое все только начиналось…
Глава XI. Волкоголовые (6)
Всего лишь одна смерть
Виновником следующей, не очень ожиданной вспышки мятежа многие исследователи считают Ивана Кирилова, который, по их мнению, решив, что дело сделано, перебрал по части репрессий. В какой-то степени это верно. В отличие от предшественников, Иван Кириллович не довольствовался принесением сложившими оружие мятежниками коллективной повинной, через старшин, как было заведено, а потребовал, чтобы каждый «вор» покаялся лично, отдав в качестве штрафа за участие в «мерзостном деле» лошадь. Это напрягло еле-еле притихший край, и не без оснований. Во-первых, «самоличные» повинные откладывали признание кланов и племен «мирными», а следовательно, они по-прежнему считались бунтовщиками и подлежали как минимум реквизициям. Во-вторых, по правилам, признаваемым русскими властями, две лошади на семью считались ее неотъемлемыми достоянием, конфискации не подлежащим. Платить за «младших», не имевших третьей лошади, согласно обычаю, пришлось бы старшинам, поскольку же в ходе событий башкиры изрядно обезлошадели, выходило так, что «старшим» пришлось бы отдать всех своих лошадей, оставшись нищими. Столкнувшись с такой перспективой, старшины Сибирской и Ногайской дорог, собравшись «человек со 100 и больши и советовали, что такого штрафа не давать, а лутче власти российской отложитца и русских людей разорять». Однако Кирилов, сам понимая, что перебрал, почти сразу отменил распоряжения о взимании штрафных лошадей и «самоличной присяге» как ошибочные, оставив их в силе лишь в отношении тех, кто все еще не собирался сдаваться, так что упреки в его адрес по этому поводу все же вряд ли можно считать справедливыми. Виноват он, скорее, в том, что в середине апреля 1737 года умер от чахотки, что было тотчас расценено скрывающимся в лесах Бепеней и прочими как «знамение Аллаха» и сигнал к новой «священной войне», на что многие башкиры, имеющие основания мстить, клюнули. Жуткого Кирилова они боялись, а назначенный ему на смену Василий Татищев был незнаком и потому страха не внушал. Позже «волкоголовые» поймут, как трагически ошиблись, – в отличие от Ивана Кирилловича, башкир, похоже, просто ненавидевшего, Василий Никитич никаких предубеждений не имел, но характером был не менее крут. Однако, чтобы понять это, нужно было время. А ждать не хотелось. Хотелось действовать.
Сразу по получении известия о смерти «Кара-Кирилы» на Сибирской, Осинской, а затем и Ногайской дорогах начались серьезные беспорядки. Невесть откуда возник Бепеня, объявивший об уходе башкир «из-под руки белого царя» и начавший рассылать по краю «указы», якобы присланные крымским ханом и султаном Порты, якобы обещавшими башкирам прислать на подмогу сто тысяч всадников, – и в это верили. В конце апреля крупные отряды бунтовщиков атаковали только-только заложенные крепости, сумев некоторые, где стены еще не были возведены, захватить и сжечь, а в мае «сущая орда» батыра Кусяпы, мстившего за двух погибших братьев, напала даже на лагерь генерала Соймонова, главкома войск Башкирской комиссии, нанеся серьезные потери в живой силе. Впрочем, как только эффект внезапности рассеялся, стало ясно, что на серьезные дела «непримиримые» не способны, а «малая война» хотя и досаждала властям, но не приносила желаемых результатов. Набеги на небольшие русские поселки, грабежи и убийства ничего не меняли, зато желание властей примерно наказать «воров башкирцев» и навсегда покончить с беспорядками росло. Дошло до того, что русские начали казнить пленных теми же методами, какими казнили пленных бунтовщики.
Дальше всех в этом смысле зашел все тот же полковник Тевкелев, стремившийся восстановить утраченное после смерти Кирилова положение «серого кардинала». Подав новому начальству обстоятельный доклад о недавнем нашествии джунгар на казахов и организации ими голода, лишившего казахов возможности сопротивляться, Алексей Иванович предлагал «переять тот зюнгорский обычай», поскольку «гладом можно наивяще их привесть в ослабление и покорность». Исключение делалось только для тех, «кои, принеся повинную, ведомо по домам сидят», но не более 3 пудов на семью, «ради того, штобы с ворами не делились». Впрочем, это предложение было оценено Татищевым как «вовсе богопротивное», и Сенат, куда он его все-таки переслал, с мнением Василия Никитича согласился.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: