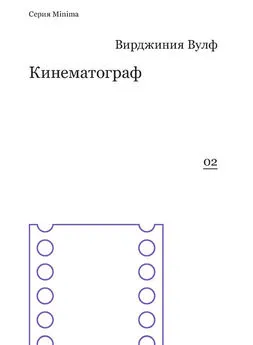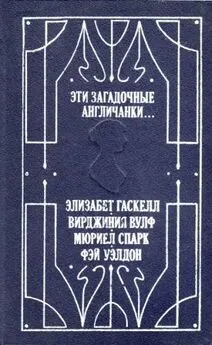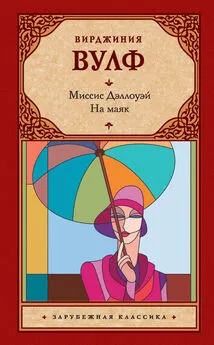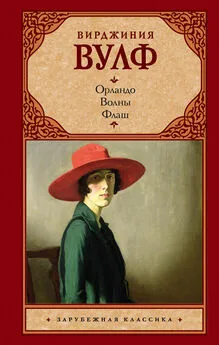Вирджиния Вулф - Кинематограф (сборник)
- Название:Кинематограф (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Ад маргинем»fae21566-f8a3-102b-99a2-0288a49f2f10
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91103-194-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вирджиния Вулф - Кинематограф (сборник) краткое содержание
«Если кинематограф перестанет паразитировать на литературе, как ему обучиться прямохождению? В данный момент мы можем строить гипотезы только по смутным намекам. Например, на днях показывали Доктора Калигари, и вдруг в углу экрана возникла тень, похожая на головастика. Она разбухла до исполинской величины, дрогнула, вздулась и исчезла, утонула в небытии. На миг почудилось, что она олицетворяла какую-то чудовищную, больную фантазию в мозгу безумца. На миг почудилось, будто контуром можно выразить мысль эффективнее, чем словами. Казалось, этот чудовищный, дрожащий головастик был сам испуг, а не утверждение Я испугана».
Кинематограф (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но в чем же он силен? Если кинематограф перестанет паразитировать на литературе, как ему обучиться прямохождению? В данный момент мы можем строить гипотезы только по смутным намекам. Например, на днях показывали «Доктора Калигари», и вдруг в углу экрана возникла тень, похожая на головастика. Она разбухла до исполинской величины, дрогнула, вздулась и исчезла, утонула в небытии. На миг почудилось, что она олицетворяла какую-то чудовищную, больную фантазию в мозгу безумца. На миг почудилось, будто контуром можно выразить мысль эффективнее, чем словами. Казалось, этот чудовищный, дрожащий головастик был сам испуг, а не утверждение «Я испугана». На деле тень возникла случайно, ее эффект был непреднамеренным. Но если в определенный момент всего лишь тень способна пробудить больше мыслей и переживаний, чем реальные жесты и слова испуганных мужчин и женщин, то, очевидно, у кинематографа прямо под рукой есть бесчисленные символы чувств, для которых по сей день не нашлось способов выражения. У ужаса, кроме его обычных форм, есть форма головастика; он растет, пухнет, вздрагивает, исчезает. Гнев – это не только ругань и тирады, не только багровые лица и стиснутые кулаки. Возможно, он – еще и конвульсии черной линии на белом листе. Анне и Вронскому больше не обязательно хмуриться и строить гримасы. В их распоряжении есть… но что именно? Существует ли, спросим мы, некий тайный язык, который мы чувствуем и видим, но никогда на нем не разговариваем, а если существует, то можно ли сделать его видимым для наших глаз? Есть ли у мысли какое-то свойство, которое можно сделать зримым без посредства слов? Мысль наделена быстротой и низостью, прямотой копья и расплывчатостью клубов дыма. Но также, особенно когда эмоции вскипают, у мысли есть способность рисовать картины и потребность переложить свое бремя на другого носильщика; устроить, чтобы ее, ни на шаг не отставая, сопровождала картинка. Не знаю уж, почему, но портрет, написанный с мысли, всегда красивее, понятнее, доходчивее, чем сама мысль. Как знает всякий, у Шекспира сложнейшие мысли сцепляются в спиральные цепочки образов, по которым мы карабкаемся, делаем пересадки, описываем круги, пока не выбираемся из тьмы на дневной свет. Но, очевидно, поэтические образы не предназначены ни для отливки в бронзе, ни для обводки карандашом. Это компендиумы с тысячами намеков, где визуальные смыслы – лишь самые очевидные или лежащие на поверхности. Даже самый незамысловатый образ – «Любовь, как роза, роза красная, / Цветет в моем саду» [5]– дарит нам ощущения (влажность, тепло, нежность лепестков, сияние алых оттенков), которые сливаются в единое целое и нанизываются на певучий ритм, а этот ритм – уже сам по себе голос горячности и робости влюбленного. Всего этого – того, что подвластно слову и только слову, – кинематограф должен избегать.
И все же, если наши мысли и чувства столь тесно связаны со зрением, то кинематограф все-таки дождется каких-то рудиментов «визуальных эмоций», которым не нашли применения ни живописец, ни поэт. Подозреваю: скорее всего, подобные символы окажутся совершенно не похожи на реальные предметы, которые мы видим вокруг. Это будет нечто абстрактное, развивающееся в такт с сознательным и тщательно управляемым художественным творчеством – то, что прибегает к содействию слов и музыки лишь по мелочам, лишь для вящей понятности, а использует их благоразумно, точно раболепных слуг, – возможно, именно из таких движений и абстракций со временем будут складываться кинокартины. В любом случае, несомненно одно: когда обнаруживается какой-то новый символ для выражения мыслей, в распоряжении кинематографиста оказываются колоссальные богатства. Дотошность реальности и ее поразительная способность навевать мысли будут к его услугам, только попроси. Анны и Вронские – вот они, во плоти. Если кинематографист сможет вдохнуть чувства в эту реальность, сможет силой мысли оживить идеальные формы, то его трофеи удастся достать из котла. И тогда, подобно дыму, что валит из кратера Везувия, нашему взгляду откроется мысль в ее первозданном состоянии, ее красота, ее странность, – как мысль извергается из сознания мужчин, облокотившихся о столы, и из сознания женщин, роняющих сумочки на пол. Мы сумеем увидеть, как эти чувства переплетаются между собой и оказывают влияние друг на друга.
Мы будем способны видеть резкие перемены чувств, вызванные их соударениями. Самые фантастические контрасты промелькнут перед нами с быстротой, которой тщетно добивался бы писатель, сколько бы ни корпел над фразами; перед нами наяву могли бы воплотиться архитектурные грезы: арки и бойницы, ниспадающие каскады и устремленные к небу фонтаны, которые иногда приходят к нам во сне или мерещатся в полумраке комнат. Ни одна фантазия не окажется чересчур несусветной или беспочвенной. Прошлое можно будет развернуть, как свиток, расстояния – отменить, а расселины, которые разрывают пространство прозы (когда, например, Толстой вынужден переключаться с Левина на Анну, и сюжет поневоле подпрыгивает на ухабах, и наше сопереживание героям спотыкается и хромает), удавалось бы сгладить при помощи единообразного фона или повтора какой-то сцены.
Как попробовать это сделать – и не просто попробовать, но сделать успешно – пока не сможет присоветовать никто на свете. Смутные догадки осеняют нас, пожалуй, разве что в уличной толчее, когда некое мимолетное сочетание красок, звуков, движений подсказывает: вот сцена, ожидающая нового искусства, которое ее запечатлеет. Или порой в кино, среди ловких ухищрений и колоссального технического мастерства, вдруг раздвигается какая-то завеса, вдруг брезжит вдали какая-то неведомая, нежданная красота. Но только на миг. Понимаете, у кинематографа странная судьба: все другие искусства родились нагими, а он, младший в роду, – полностью одетым. Он может высказать все что угодно, но пока не имеет что сказать. Словно племя дикарей отыскало уже не пару железок, с которыми можно забавляться, а разбросанные на морском берегу скрипки, флейты, саксофоны, трубы, рояли фабрик Эрара и Бехштейна, отыскало и принялось с невероятной энергичностью, но не зная ни единой ноты, бить-колотить по всем этим инструментам одновременно.
Middlebrow
Письмо, написанное, но так и не отправленное в редакцию журнала «The New Statesman»
Сэр,
позвольте мне, пожалуйста, привлечь ваше внимание к тому факту, что в рецензии на одну из моих книг (см. октябрьский номер) ваш рецензент запамятовал одно слово, а именно ни разу не употребил термин «высоколобый» (highbrow). Рецензия, если не считать этого упущения, так меня порадовала, что я, рискуя показаться неподобающе себялюбивой, решилась спросить у вас: может быть, ваш рецензент, человек, очевидно, умный, намеревался оспорить мои права на это звание? Я выбрала слово «права», ибо я определенно могу предъявлять такие права, когда великий критик и одновременно великий прозаик (сочетание завидное и редкостное) непременно называет меня «высоколобой» на страницах одной из величайших газет, если снисходит до внимания к моим опусам; и, более того, никогда не жалеет места на газетной полосе, чтобы известить, известить не только меня, ибо я уже осведомлена, но и всю напряженно ловящую его слова Британскую империю, о том, что я живу в Блумсбери? Может быть, ваш критик просто не знает, где я живу? Или он, при всем своем интеллекте, полагает, что в книжной рецензии излишни упоминания о почтовом адресе автора?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: