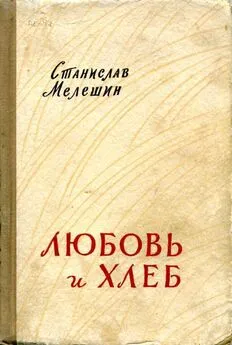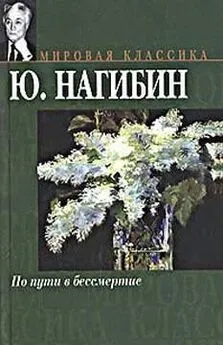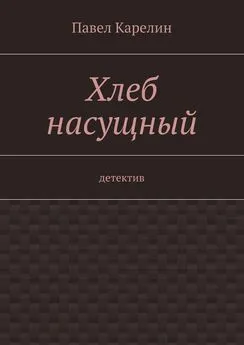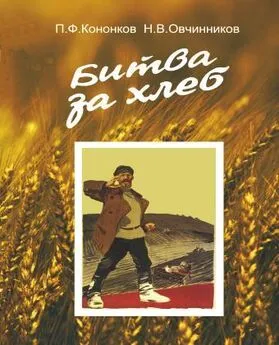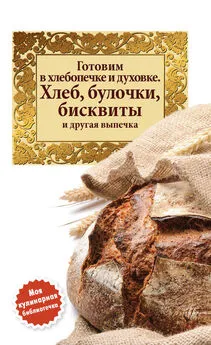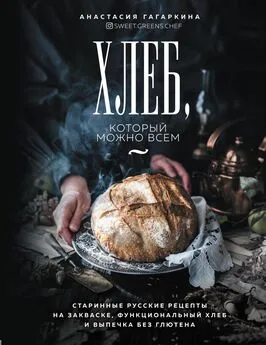Юрий Черниченко - Хлеб
- Название:Хлеб
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература».
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:5-280-00203-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Черниченко - Хлеб краткое содержание
В книгу известного журналиста и писателя Юрия Дмитриевича Черниченко включены очерки (60-е — 80-е гг.) и повесть «Целина» (1966 г.), посвященные проблемам современной деревни. Очерки отличаются обстоятельностью и широтой исследования. Многочисленные отступления в область исторического прошлого, национальной культуры, архитектуры обогащают и украшают их. Повесть «Целина» автобиографична. Она знакомит читателя с интересными, мужественными, сильными людьми.
Хлеб - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Не до чужой тут было сбруи, свою бы не потерять, три-два-один — взлет!
Вы знаете, Юрий Александрович, неприятные ощущения были только во время набора высоты. А когда я на встречных потоках пошел нордом к Ставропольскому плато, оставляя под правой рукой приусадебный сектор Армавира, места отдыха трудящихся, а под левой — поля, сады, фермы, остатки укреплений полководца А. В. Суворова, — прохлада освежила лоб, и оно пришло, ничего не ожидая, гулкое, как ростовский колокол «Сысой»:
— Поделом!.. Поделом!.. Поделом!..
Виновен — и получил самый минимум.
Виновен в социально опасной вере в магию! Вот внедрим — освоим такую-то машину, или насадку на нее, или даже метод пользования, групповой или наоборот, одиночный — и расточатся врази, откроется небо в алмазах… Кто насаждал раздельную уборку осенью 1956 года в Верх-Чуманке Алтайского края как истину в конечной инстанции? Кто валил колосья на стерню, облыжно внушая, что «колос в валке — это хлеб в мешке»? Зерно прорастало, зелень переплела солому, валок потом тянулся бесконечной ковровой дорожкой — в какой-то аграрный ад. Да осталось бы оно за горизонтом времен, являлось бы к тебе одному, как приходили лемовским героям на планете Солярис их тайные грехи, так нет ведь: и осенью восемьдесят третьего на том же Алтае видел те же самые адские коврики.
Какие испытания прошла готовность ликовать!
Ну, переделку прицепного комбайна в самоходный, чтоб ползал сам, как Емелина печка, забыли, списали на волюнтаризм, но эксцентриковые мотовила, бункера-накопители, переворот валков, ипатовский метод, да герметизация, сдваивание то ножей, то валков, то еще чего-то, и непременно со схемой в местной газете, с решением о повсеместном внедрении — все это поныне кипит и бушует… На вдумчивых ЭВМ считают потребность машин на конец века; Сибирь с Казахстаном, сорок миллионов га зернового засева, относят к графе «Урожайность 11 центнеров». Чушь, надо бы — «намолот 11 центнеров», рожает земля гораздо больше! Еще в пятилетке 1905–1909 годов — мне приходилось про это печатать — сбор зерновых по Алтаю составил 10,2 центнера на круг. Неужто за 80 лет прибавлено только 80 килограммов, это в ХХ-то веке?! «Галиматня», как говорит наш бригадир Андрей Ильич. Это все коврики, все вера в чудо! Страда стала временем, когда в поле почти узаконенно остается 20 процентов зерна.
Виновен в сокрытии фактов национальной значимости. Знал, но не донес о крутом росте парка комбайнов и о синхронном, столь же крутом росте доли ввозимого зерна. Эти явления вступили в преступный сговор для покушения на казну с двух сторон, а я, зная, что выпуск комбайнов перевалил за сто тысяч штук в год, а длительность уборки все прежняя, 24 дня, зная, что импорт зерна за время моей работы вырос в 15, а потом и больше раз, все объяснял то серией технических промашек, то заговором стихийных сил, сознательно не произнося слов «производственные отношения». Убедился, но не сообщал, что производственные отношения, материализованные в машинах уборки, настолько не отвечают требуемым производительным силам, насколько собственный сбор зерна не отвечает нужде в нем — и просит валюты на импорт. Абстрактное понятие «попустительство» метрически может быть выражено весом продовольственного ввоза, а графически — качеством, использованием и ремонтом уборочных машин. А если — в итоге расчлененок, степных досборок, коррупции вокруг сальников-ремней и завскладовского алкоголизма — «все-таки вертится», то единственным гарантом тут — подгруженный планом, семейством и бригадным подрядом хуторянин в промасленном ватнике, мерцающем как доспех, и он представляет первое агропоколение, которое знает — машинка-то неважнецкая, и металл третий сорт, и сборка шаляй-валяй, и штампы тяп-ляп, тут тебе не дедовы лобогрейки-молотилки, что проходили через поколения целыми, разве что на старости лет хлопали сшитым ремнем. А сейчас выбирать не из чего, машина тебе назначена, и опасно близким к сельской жизни оказывается насмешливый лозунг ироничного академика Мигдала: «Дадим заказчику не что он хочет, а в чем он нуждается!» Говорится ли такое или мнится молча, но видна худая услуга монопольности самой идее машинизации, тем мечтательным ста тысячам тракторов, какие убедили бы мужика голосовать за коммунию.
Признаю вину в застарелом гегельянстве: раз действительно — стало быть, и разумно. И где авторитет, там приоритет. Вот был А. А. Ежевский главой Госкомсельхозтехники — и стоял как скала за модернизацию уже существующих комбайнов, за подъем ступенями, против штурма неведомых высот. А стал тот же А. А. Ежевский министром сельхозмашиностроения — и «поворот все вдруг», аргументы полетели кверху тормашками, вместо степенного подъема — рывок к «Дону-1500». (Конечно, точка зрения инженера — не у попа жена, ее менять можно, но только — как впечатляет здесь сама живость перемен! И как мобильность эта связана с переменой кресел!..) Если три министра (до Госагропрома действовала такая триада, Минсельхоз, Минсельмаш и Госкомсельхозтехника вкупе решали судьбу машин и вложений) вместо фактически нужных селу 470 тысяч работающих комбайнов запрашивали 1050 тысяч и успешно достигали просимого, то, значит, остается повторить за древним фанатиком: «Верую, ибо абсурдно».
А раз веруешь, то лети не жалуйся. Не жалуюсь, а… захожу на посадку.
Вон внизу наша бригада: мастерская, кухня, автовесы.
Андрей Ильич в холодке играет свой обеденный блиц, Я сел — грамотно, на три точки — в бригадном огороде (лук, щавель, картошка), которым мы откликнулись на лозунг всеобщего самопрокорма. Отряхнулся, вышел…
— Что, пенделя дали? — не отрываясь от доски, спросил бригадир, видящий кадры насквозь. — Идите к Риме, пока борщ горячий, а чесночинку я дам…
Для гласности у Андрея Ильича есть навес с голубыми перильцами. Сюда он выходит и сам — вовремя сказать нужное слово, оттенить некелейность решения. Здесь вывешивает «молнии» и решает вопросы оплаты труда, громко ища истину, счетовод бригады Анна Дмитриевна. У навеса выкуривает последний «Памир» дня мой терпеливый учитель Виктор Васильевич Карачунов — это в тот тихий момент, когда комбайны согнаны под ночной надзор, а состав механизаторов принимает душ перед отправкой на восстановление сил в станицу Прочно-окопскую, посещенную в свое время путешествовавшими Пушкиным и Лермонтовым.
С голубых перил я и сознался в происшедшем, допустив, что у вас, Юрий Александрович, был в резерве и другой способ дискуссий.
— Галиматня, — оборвал меня Андрей Ильич. Он у нас резковат как гоголевский Иван Никифорович (видно, сказывается сходство внешностей), зато по складу ума — философ. Кинической, скорей всего, школы, — Когда в соревнованиях участник один, прессы не надо. Победителя мы с утра знаем, чего посторонним гуртоваться? Пенделя, чтоб не путались.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: