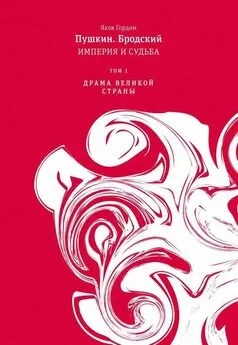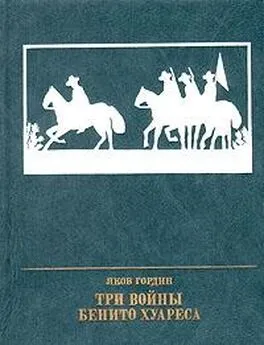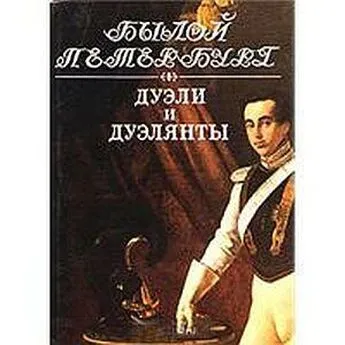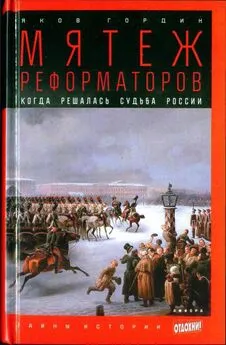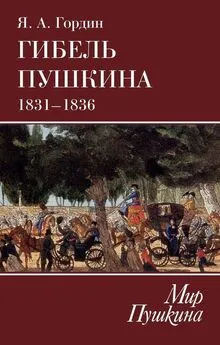Яков Гордин - Пушкин. Бродский. Империя и судьба. Том 1. Драма великой страны
- Название:Пушкин. Бродский. Империя и судьба. Том 1. Драма великой страны
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Время»0fc9c797-e74e-102b-898b-c139d58517e5
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9691-1444-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Яков Гордин - Пушкин. Бродский. Империя и судьба. Том 1. Драма великой страны краткое содержание
Первая книга двухтомника «Пушкин. Бродский. Империя и судьба» пронизана пушкинской темой. Пушкин – «певец империи и свободы» – присутствует даже там, где он впрямую не упоминается, ибо его судьба, как и судьба других героев книги, органично связана с трагедией великой империи. Хроника «Гибель Пушкина, или Предощущение катастрофы» – это не просто рассказ о последних годах жизни великого поэта, историка, мыслителя, но прежде всего попытка показать его провидческую мощь. Он отчаянно пытался предупредить Россию о грядущих катастрофах. Недаром, когда в 1917 году катастрофа наступила, имя Пушкина стало своего рода паролем для тех, кто не принял новую кровавую эпоху. О том, как вослед за Пушкиным воспринимали трагическую судьбу России – красный террор и разгром культуры – великие поэты Ахматова, Мандельштам, Пастернак, Блок, русские религиозные философы, рассказано в большом эссе «Распад, или Перекличка во мраке». В книге читатель найдет целую галерею портретов самых разных участников столетней драмы – от декабристов до Победоносцева и Столыпина, от Александра II до Керенского и Ленина. Последняя часть книги захватывает советский период до начала 1990-х годов.
Пушкин. Бродский. Империя и судьба. Том 1. Драма великой страны - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
демонстративная вариация пушкинского:
Смертный миг их будет светел.
И подруги шалунов
Соберут их легкий пепел
В урны праздные пиров.
Ахматова в это время по-своему преодолевала кризис отношений с миром. Светлые, восторженные, высокие восемь последних строк стихотворения, которое начато так безжалостно («Все расхищено, предано, продано…»), отнюдь не оправдание «страшного мира». Это – прорыв в надбытовую сферу. Это – мироощущение христианского схимника в стране, разрушенной варварами.
Не пантеизм Пастернака, не гуманистический культуроцентризм Мандельштама, но религиозное мировосприятие, сообщающее страданию высокий смысл.
Ни Пастернак, ни Мандельштам, ни тем более Ахматова не могли написать, как Бунин:
«Зачем жить, для чего? Зачем делать что-нибудь? В этом мире, в их мире поголовного хама и зверя, мне ничего не нужно…»
Затравленный Мандельштам подошел к этому рубежу в «Четвертой прозе», но нашел в себе силы не переступать его.
Для Ахматовой подобное было невозможно даже в самый черный миг, как позже и для загоняемого в смерть, ошельмованного Пастернака…
«Блаженное слово», «блаженные жены» – это сочетание пронизывает цитированные выше стихи Мандельштама, образуя прочную связь с просветленными строфами Ахматовой.
«Блаженный» – слово религиозного словаря. Блаженный Августин – один из отцов церкви. «Блажен муж…» – начало молитвы. Блаженный – сподобленный блаженства, благодати, просветленный, прикосновенный к высшему смыслу существования.
У Мандельштама это слово имеет и еще один оттенок: «отвяжитесь, бесенята, от блаженного», – говорит старуха в «Борисе Годунове». «Блаженненький» – не от мира сего. Блаженные жены и блаженное слово – знак того же ощущения благодати, даруемой за страдание и верность, что и душевная просветленность Ахматовой – «отчего же нам стало светло…».
Но Ахматова оказалась ближе всех к жизни как таковой, к быту, к обыкновенному человеческому мироощущению, и потому ее естественный гуманизм и неприятие любой ачеловечности были столь явны и ничем не осложнены. Позже и Пастернак, и Мандельштам пришли к тому же чистому гуманизму, пройдя через мучительные искушения «исторической необходимостью», столь понятной тягой к «примирению с действительностью» и не менее понятным желанием единения с народом.
Ахматова была последовательна с самого начала.
«Все расхищено, предано, продано…» 1921 года восходит непосредственно к «тоске самоубийства» и «немецким гостям» года 1917-го. И мученическое просветление отнюдь не равнозначно примирению. Тем более что реальность задевала Ахматову в тот период чаще и яростнее, чем двух других гениев.
3 августа 1921 года был арестован Гумилев. Очевидно, Ахматова не питала никаких надежд на благополучный исход дела.
Не бывать тебе в живых,
Со снегу не встать.
Двадцать восемь штыковых,
Огнестрельных пять.
Горькую обновушку
Другу шила я.
Любит, любит кровушку
Русская земля.
Впервые публикуя эти стихи в «ANNO DOMINI», Ахматова датировала их 1914 годом, чтобы власти не могли соотнести их с тем событием, которому они и были посвящены, – с арестом Гумилева. На самом деле они написаны 19 августа 1921 года.
24 августа Гумилев был приговорен к расстрелу.
Великий Вернадский, тщетно «пытавшийся предотвратить казнь одного из участников заговора – крупного ученого, бывшего члена группы «Освобождение труда» М. М. Тихвинского, писал впоследствии:
«Это была и партийная борьба. Сейчас после встречи с М. Ф. Андреевой я вижу, что в этой среде все было возможно. Тихвинский меня убеждал уехать в Америку… Я очень уклончиво относился к этому, но когда я узнал о казни невинных людей – я почувствовал, что, может быть, Тихвинский был прав… Это одно из ничем не оправданных преступлений, морально разлагающее партию».
И еще он писал о том
«списке, который был развешан в Петербурге и произвел потрясающее впечатление не страха, а ненависти и презрения, когда его прочли» [82].
Именно эти чувства – «ненависть и презрение» – люди ахматовского круга сохранили до конца. Добрая знакомая Ахматовой художница Любовь Шапорина, пережившая террор в Петрограде послереволюционных лет и террор в Ленинграде тридцатых годов, записала в дневник 17 июля 1939 года:
«Сволочи. Я не могу – меня переполняет такая невероятная злоба, ненависть, презрение, – и что можно сделать?.. А. Ахматова рассказывала мне со слов сына, что в прошлом июне 1938 г. были такие избиения, что людям переламывали ребра, ключицы. Сын Ахматовой обвиняется в покушении на Жданова» [83].
«Ненависть и презрение»… Кроме этих чувств Ахматова испытывала острое личное горе.
Н. Берберова, выступая в Ленинграде, ответила на вопрос о впечатлении от гибели Гумилева:
«Это был такой удар! Ведь это был, насколько я помню, первый массовый расстрел интеллигенции – весьма загадочный судебный казус… Ведь расстреляли тогда шестьдесят два человека, из них шестнадцать женщин…» [84]
Четыре женщины были расстреляны как жены заговорщиков.
Это был не первый расстрел интеллигенции вообще, но первый – в мирное время. Гражданская война закончилась. Кронштадтский мятеж был подавлен в марте. Начинался нэп. Эти шестьдесят два человека, многие из которых действительно состояли в подпольной организации, сколько-нибудь серьезной опасности не представляли. «Таганцевское дело» еще ждет объективного исследования [85]; но совершенно ясно, что то была чистая акция устрашения. Политическое убийство.
27/28 августа Ахматова пишет: «Страх, во тьме перебирая вещи, / Лунный луч наводит на топор», – стихи, как блестяще показал Лев Лосев [86], восходящие к «Преступлению и наказанию», стихи о нестерпимости такой жизни.
Лучше бы поблескиванье дул
В грудь мою направленных винтовок,
Лучше бы на площади зеленой
На помост некрашеный прилечь
И под крики радости и стоны
Красной кровью до конца истечь.
И вскоре после этого:
Я гибель накликала милым,
И гибли один за другим.
А в следующем, 1922 году Ахматова все сказала ясно и твердо:
Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.
Но вечно жалок мне изгнанник,
Как заключенный, как больной.
Темна твоя дорога, странник,
Полынью пахнет хлеб чужой.
А здесь, в глухом чаду пожара
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.
И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час…
Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.
Интервал:
Закладка: