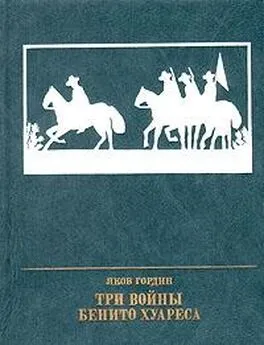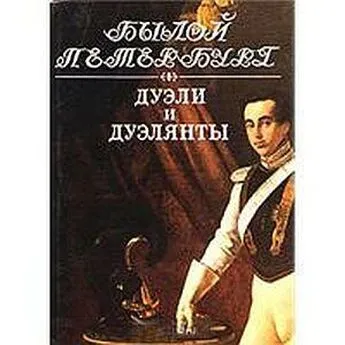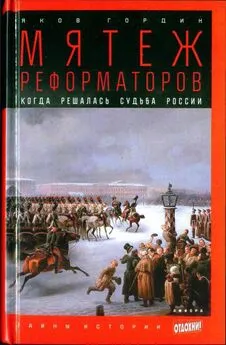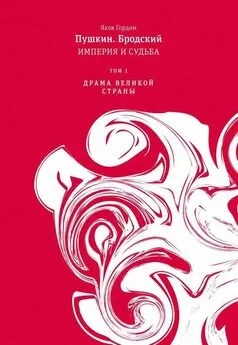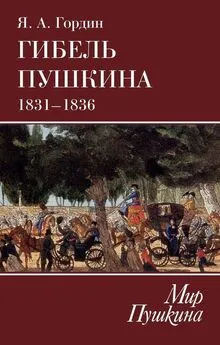Яков Гордин - Пушкин. Бродский. Империя и судьба. Том 2. Тем, кто на том берегу реки
- Название:Пушкин. Бродский. Империя и судьба. Том 2. Тем, кто на том берегу реки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Время»0fc9c797-e74e-102b-898b-c139d58517e5
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9691-1445-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Яков Гордин - Пушкин. Бродский. Империя и судьба. Том 2. Тем, кто на том берегу реки краткое содержание
Герои второй части книги «Пушкин. Бродский. Империя и судьба» – один из наиболее значительных русских поэтов XX века Иосиф Бродский, глубокий исторический романист Юрий Давыдов и великий просветитель историк Натан Эйдельман. У каждого из них была своя органичная связь с Пушкиным. Каждый из них по-своему осмыслял судьбу Российской империи и империи советской. У каждого была своя империя, свое представление о сути имперской идеи и свой творческий метод ее осмысления. Их объединяло и еще одно немаловажное для сюжета книги обстоятельство – автор книги был связан с каждым из них многолетней дружбой. И потому в повествовании помимо аналитического присутствует еще и значительный мемуарный аспект. Цель книги – попытка очертить личности и судьбы трех ярко талантливых и оригинально мыслящих людей, положивших свои жизни на служение русской культуре и сыгравших в ней роль еще не понятую до конца.
Пушкин. Бродский. Империя и судьба. Том 2. Тем, кто на том берегу реки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Зная все, чем оказалось чревато московское самодержавие, Д. Балашов в утопическом варианте противопоставляет ему несостоявшееся самодержавие тверское – просвещенное.
«Что было бы, не начни Юрий Московский борьбу против Твери? Как повернулась бы тогда судьба страны?.. Укрепилась торговая и книжная Тверь, самою природою (перекрестье волжского, смоленского и новгородского торговых путей) поставленная быть столицей новой Руси. Укрепилась бы одна династия, а значит, на столетие раньше страна пришла бы к твердой государственной власти, к просвещению, а там, глядишь, и не потребовалось бы, с опозданием на два-три века, вводить западные университеты и академии, приглашать немцев, спорить о “западничестве” и “исконности” – свои бы ученые были давно!.. А Орда? Можно ли предположить, что в Орде тогда не одолели бы мусульмане, что со временем, поколебавшись, Орда приняла бы крещение от православных митрополитов, и не пошла ли бы тогда иначе вся судьба великой степи и стран Ближнего Востока?» [112].
Несмотря на перечисленные далее возможные негативные последствия этого варианта, позитивная картина Д. Балашову ближе, и верит он в нее больше.
Повторяю: утопия отнюдь не равна фантазии. У создателей утопий есть свой принцип. И принцип этот – отсечение всего противоречивого, тщательный отбор факторов. Утопия и политический реализм соотносятся приблизительно так же, как евклидова и неевклидова геометрия. Утопия – апофеоз ясности и формальной логики. Политический реализм включает в себя мощный фактор парадоксальности.
Утопист, выстраивая четкую структуру будущего государственного устройства или какой-либо формы человеческого общежития, отбрасывает те факторы политического контекста и человеческой психологии, которые ему мешают. Он не намечает конкретных путей их изживания. Он через них перескакивает. Толстой считал возможным достаточно быстрый переход Российского государства в казачью общину. Написанные им отрывки романов из жизни XVIII века включают ярчайшие образцы утопической прозы. А роман о декабристах должен был кончаться выходом героя в утопическое бытие, в ту здоровую народную жизнь, которая мыслилась Толстому. И происходить это должно было на Востоке, в заволжских степях.
В утопическом мироощущении Толстого степь играла огромную роль. Любопытно, что русская народная утопия в значительной части своей ориентирована на Восток. В представлениях Д. Балашова благополучное развитие Руси возможно только в союзе с Великой степью, в слиянии с ней. «Государство, стойно западным, враждебное степной стихии, густо населенное, но небольшое, с границей по Оке, так потом и не переплеснувшее за Волгу и Урал», кажется ему неправомочным. Это – поражение, несостоявшаяся судьба.
Мы здесь не будем полемизировать с автором романа по существу дела. Сейчас важно отметить тенденцию, направление работы.
Причем у Дмитрия Балашова построение утопического фона идет по двум линиям – русской и монгольской. Монгольская часть утопии непосредственно устремлена в прошлое – к эпохе Чингис-хана.
«И будет снова одна великая степь. И будет он (хан Тохта. – Я. Г. ) там, в степи, принимать и чествовать послов из разных земель, и сами урусуты станут привозить ему туда, в Монголию, кольчатые брони и мед из своей земли…» [113]
Держава Чингис-хана – без войн и крови… Исторический материал, трансформированный сегодняшней установкой в сторону утопической целесообразности.
Литературная работа Д. Балашова прекрасно иллюстрирует одну из характерных черт процесса исторической прозы конца семидесятых. Изданный в 1972 году роман его «Марфа-посадница» [114] – добротный и традиционный по форме исторический роман с подробным и плавным развитием, даже несколько измельченным – показывает жизнь Новгорода и Москвы с птичьего полета. Автор видит эту жизнь подробно, текущей широким слитным потоком.
Структура романа «Великий стол», изданного через семь лет, принципиально иная. Сюжет развивается скачками, нет соединительных звеньев, играющих служебную роль, каждый эпизод – узловой. Но главное – не это. Главное – монологический принцип воздействия на читателя.
В «Марфе-посаднице» авторская идея глубоко погружена в конкретный материал. В «Великом столе» она декларируется, она не столько пронизывает, сколько рассекает материал. Фактура не уступает по своей конкретности и пластичности фактуре предыдущего романа, но функция у нее иная. Если в «Марфе-посаднице» она дает читателю возможность делать выводы, то в «Великом столе» она играет подчиненную роль – подкрепляет те выводы, которые уже сделал автор.
Кроме прямых развернутых рассуждений самого Д. Балашова – предположений, сетований, оценок – в романе выстроена целая система явных и неявных внутренних монологов персонажей, дающих возможность автору четко расставить смысловые акценты. В чем тут дело? Отчасти в недоверии – и надо сказать, заслуженном – к читателю и критике. Но в основе, я полагаю, лежит нарастающее последние годы стремление к максимальной идеологической насыщенности исторической прозы. Стремление к изживанию беллетристики. Это не попытка публицистического подхода к материалу, что данному жанру, на мой взгляд, противопоказано, но попытка построения свободной философии истории.
Нет ли здесь, однако, противоречия с утверждением адидактичности исторической прозы? Нет. Как писал Пастернак:
Однажды Гегель ненароком
И, вероятно, наугад
Назвал историка пророком,
Предсказывающим назад.
То, о чем идет речь, это именно напряженное осмысление прошлого, «пророческое» угадывание возможных вариантов. Это попытки уловить направление процесса, а не формулирование его окончательных результатов.
В высоком слое сегодняшней исторической прозы идет волевое подчинение материала. Однако отнюдь не в плане его искажения, выламывания, фальсификации. Нет, просто материал заставляют говорить гораздо яснее и громче, чем это обычно происходит в исторической беллетристике. Оставаясь романной по форме, историческая проза в плане смыслового напряжения стремительно сдвигается в сторону трактата, эссеистики.
Движение это идет очень разными путями.
И один из этих путей – жестокая борьба с утопическим элементом в подходе к историческому материалу.
У исторической прозы и утопического трактата при несомненном родстве есть принципиальные различия. Цель проверки идей, которую производит автор утопии, – изготовление окончательной рецептуры. Утопия – замкнутый мир.
Авторы высокой исторической прозы не заинтересованы в положительном результате проверки во что бы то ни стало. Они стремятся к объективности и беспристрастности – в пределах создаваемой ими разомкнутой историко-художественной реальности.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: