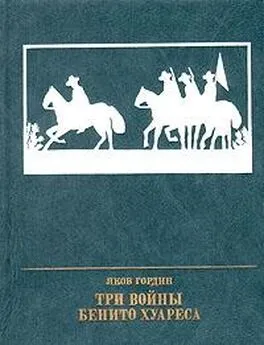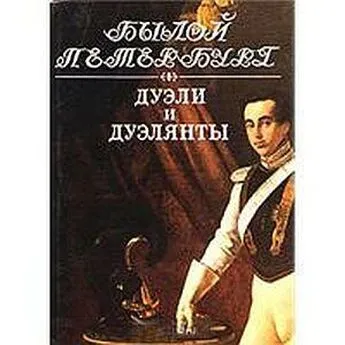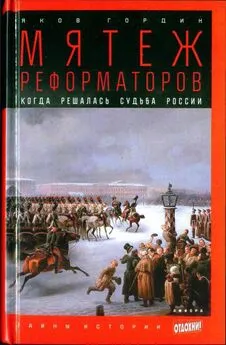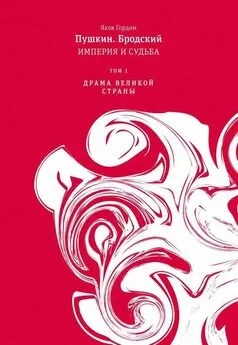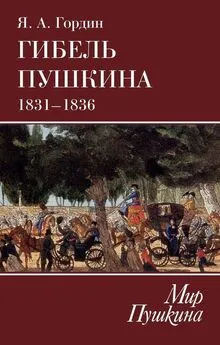Яков Гордин - Пушкин. Бродский. Империя и судьба. Том 2. Тем, кто на том берегу реки
- Название:Пушкин. Бродский. Империя и судьба. Том 2. Тем, кто на том берегу реки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Время»0fc9c797-e74e-102b-898b-c139d58517e5
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9691-1445-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Яков Гордин - Пушкин. Бродский. Империя и судьба. Том 2. Тем, кто на том берегу реки краткое содержание
Герои второй части книги «Пушкин. Бродский. Империя и судьба» – один из наиболее значительных русских поэтов XX века Иосиф Бродский, глубокий исторический романист Юрий Давыдов и великий просветитель историк Натан Эйдельман. У каждого из них была своя органичная связь с Пушкиным. Каждый из них по-своему осмыслял судьбу Российской империи и империи советской. У каждого была своя империя, свое представление о сути имперской идеи и свой творческий метод ее осмысления. Их объединяло и еще одно немаловажное для сюжета книги обстоятельство – автор книги был связан с каждым из них многолетней дружбой. И потому в повествовании помимо аналитического присутствует еще и значительный мемуарный аспект. Цель книги – попытка очертить личности и судьбы трех ярко талантливых и оригинально мыслящих людей, положивших свои жизни на служение русской культуре и сыгравших в ней роль еще не понятую до конца.
Пушкин. Бродский. Империя и судьба. Том 2. Тем, кто на том берегу реки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Его книги, тщательно описанные Таней Никольской, мебель его комнатки – книжный шкаф, стол, книжная полка, стоявшая на столе, – все это тоже отправилось в нашу большую квартиру на Моховой. Сундучок, в котором Иосиф хранил рукописи, взяла племянница Марии Моисеевны Лиля. Она же сохранила семейные документы.
Мой сын Алеша несколько лет делал уроки за Осиным письменным столом. Потом я отдал мебель на хранение в Музей города, а книги – в музей Ахматовой. Кресло Иосифа взял тогда наш общий друг Миша Петров. Недавно он передал его в тот же музей Ахматовой, где библиотека и все прочее дожидаются открытия музея-квартиры Бродского…
Я не полетел на похороны Иосифа. Я был слишком убит этой бедой. Я не видел его последние пять лет, а на мои вопросы по телефону он отвечал бодро, хотя и лаконично. Я не представлял себе, в каком он ужасном состоянии, и имел глупость предложить ему за несколько недель до его ухода весьма авантюрный проект его приезда инкогнито в Петербург. Идея была не моя, а некой киногруппы, которая бралась его привезти, снять фильм о его пребывании – буквально за один день – и увезти обратно. Повторяю, я имел глупость сообщить ему эту идею по телефону. Он очень мягко сказал, что это заманчиво, но сейчас вряд ли возможно.
Я боялся, что на похоронах его будет многолюдно и суетно, и не хотел это видеть. Как я узнал позже – я ошибался. Все было достойно.
Но когда приблизился сороковой день, я понял, что хочу и должен быть там. Тем более что Мария прислала мне приглашение и попросила прочитать одно из любимых стихотворений Иосифа – мандельштамовское «Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма, / За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда…»
Стихи эти были чрезвычайно близки Иосифу и по своей смысловой таинственности и по горечи… «Я – непризнанный брат, отщепенец в народной семье… Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи…»
Время было нелегкое, и надо было думать, где раздобыть денег на билеты. Мария предлагала оплатить поездку, но я, разумеется, не мог на это пойти. И тут позвонил мой старый добрый знакомый Бенгт Янгфельдт из Стокгольма, которого Иосиф ценил и который опекал его во время частых поездок в Швецию. Бенгт поинтересовался, полечу ли я на сороковины. Я ответил, что ищу деньги. «У меня есть план», – сказал Бенгт. Он позвонил через некоторое время и сказал, что договорился со Шведской Академией – они готовы выделить тысячу долларов на мою поездку. Если память мне не изменяет, такую же сумму получил от шведов и Володя Уфлянд, с которым мы вместе и полетели.
Нас встретил в аэропорту Игорь Ефимов. Володю мы завезли в гостиницу, где ему был забронирован номер, а меня Игорь повез к себе в городок Энглвуд, штат Нью-Джерси, в тридцати минутах езды от Нью-Йорка.
Утром 8 марта мы выехали из Энглвуда в Нью-Йорк. Погода была кошмарная. Дул очень сильный ледяной ветер, который нес смешанный с водой снег, мгновенно залеплявший ветровое стекло. Мы припарковались довольно далеко от собора, в котором должна была проходить служба, и те несколько сотен метров, которые нужно было пройти, – причем против ветра, – стали серьезным испытанием…
Саму церемонию Мария продумала точно, умно и с большим вкусом. В огромном соборе – освещена только центральная часть – были установлены две высокие кафедры. После величественного молебна на эти кафедры в четком порядке стали приглашать друзей Иосифа. Чтобы не было никаких заминок, каждого из нас до самой кафедры сопровождал служитель собора. Читались стихи Иосифа – по-русски и по-английски. Читали все удивительно хорошо – торжественно и сдержанно.
Меня поразил своим чтением Барышников – по-английски…
«Сохрани мою речь…» я помнил наизусть с незапамятных времен, но хотя многократно за прошедшие дни повторял стихи про себя, – я испытывал настоящий страх сбиться, забыть строчку, – все обошлось.
В интервалах между чтением была музыка. Не буду врать – не помню, что именно исполнялось; думаю, любимые Иосифом старые композиторы.
Все вместе – огромное пространство собора, неярко освещенное, с полумраком, клубившимся по углам и под куполом, строгая речь священника, глубокий и гулкий звук органа, чтение стихов как продолжение молебна, прекрасные лица, смутная надежда, что, быть может, Иосиф это видит и слышит, – производило впечатление, описать которое невозможно. Это было достойно его.
Потом мы поехали к Энн Шеллберг – верной помощнице Иосифа при жизни и тщательной душеприказчице после его ухода.
Наш разговор с Иосифом в мексиканском ресторане – в своей, так сказать, философической части – свелся к разговору об ответственности. И по сути дела, им бы и надо было закончить этот то ли очерк, то ли мемуар с рассуждениями.
Проблема исторического выбора, как, впрочем, и бытового, несет в себе изначальное противоречие – сложно взаимодействующие принципы ответственности и свободы. Когда Георгий Федотов дал статье о Пушкине парадоксальное название – «Певец империи и свободы», – он, по сути дела, имел в виду именно это. Пушкин первый в нашей культуре, не отводя глаз, всю жизнь смотрел в лицо этому смертоносному противоречию.
Необычайная судьба Иосифа Бродского – результат предельного восприятия ситуации выбора. Абсолютная ответственность перед культурой – традиция Ахматовой и Мандельштама, – и неодолимая потребность открытой, а не «тайной» свободы как непременного условия существования. При катастрофическом соединении этих двух компонентов «критической массы» и высвободилось огромное количество творческой энергии. Случай в истории культуры весьма редкий.
1988–2009Версия прошлого
«Диалоги с Бродским» Соломона Волкова – книга для русской литературной культуры уникальная. Сам Волков пишет в авторском предисловии об экзотичности для России этого жанра, важность которого, однако, очевидна. Единственный известный автору этих страниц прямой аналог – записи обширных разговоров с Пастернаком – блестящая работа Александра Константиновича Гладкова. Но она, как мы увидим, принципиально отлична от «Диалогов».
В предисловии к «Разговорам с Гёте» Эккермана – неизбежно возникающая параллель, подчеркнутая Волковым в названии, – В. Ф. Асмус писал:
«От крупных мастеров остаются произведения, дневники, переписка. Остаются и воспоминания современников: друзей, врагов и просто знакомых… Но редко бывает, чтобы в этих материалах и записях сохранился на длительном протяжении след живых бесед и диалогов, споров и поучений. Из всех проявлений крупной личности, которые создают ее значение для современников и потомков, слово, речь, беседа – наиболее эфемерные и преходящие. В дневники попадают события, мысли, но редко диалоги. Самые блистательные речи забываются, самые остроумные изречения безвозвратно утрачиваются… Во всем услышанном они (мемуаристы. – Я. Г. ) произведут, быть может, незаметно для самого собеседника, отбор, исключение, перестановку и – что самое главное – перетолкование материала. ‹…› Что уцелело от бесед Пушкина, Тютчева, Байрона, Оскара Уайльда? А между тем современники согласно свидетельствуют, что в жизни этих художников беседа была одной из важнейших форм существования их гения» [19].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: