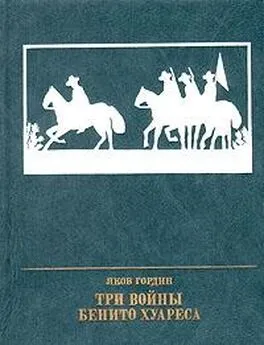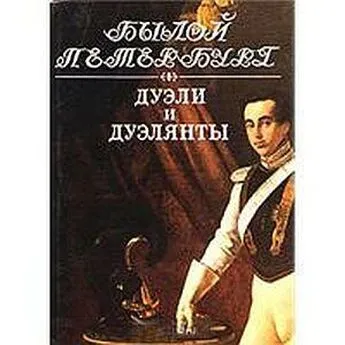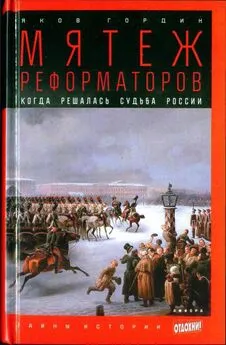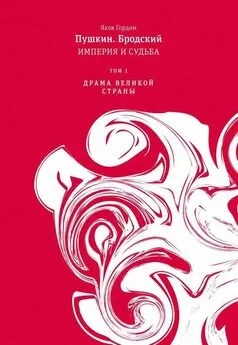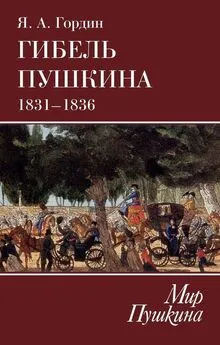Яков Гордин - Пушкин. Бродский. Империя и судьба. Том 2. Тем, кто на том берегу реки
- Название:Пушкин. Бродский. Империя и судьба. Том 2. Тем, кто на том берегу реки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Время»0fc9c797-e74e-102b-898b-c139d58517e5
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9691-1445-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Яков Гордин - Пушкин. Бродский. Империя и судьба. Том 2. Тем, кто на том берегу реки краткое содержание
Герои второй части книги «Пушкин. Бродский. Империя и судьба» – один из наиболее значительных русских поэтов XX века Иосиф Бродский, глубокий исторический романист Юрий Давыдов и великий просветитель историк Натан Эйдельман. У каждого из них была своя органичная связь с Пушкиным. Каждый из них по-своему осмыслял судьбу Российской империи и империи советской. У каждого была своя империя, свое представление о сути имперской идеи и свой творческий метод ее осмысления. Их объединяло и еще одно немаловажное для сюжета книги обстоятельство – автор книги был связан с каждым из них многолетней дружбой. И потому в повествовании помимо аналитического присутствует еще и значительный мемуарный аспект. Цель книги – попытка очертить личности и судьбы трех ярко талантливых и оригинально мыслящих людей, положивших свои жизни на служение русской культуре и сыгравших в ней роль еще не понятую до конца.
Пушкин. Бродский. Империя и судьба. Том 2. Тем, кто на том берегу реки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В «Подпоручике Киже» есть у Тынянова поразительная по точности фраза: Павел осознает, что он «царствует слишком быстро».
И Тынянов, и Толстой воспринимали Павла как отчаянного борца с естественным ходом истории. Работая над своей блестящей книгой «Грань веков», Эйдельман другими путями пришел к тому же выводу. Он уверенно апеллирует к яснополянскому мудрецу:
«Великий мыслитель видел возможность развить свои любимые идеи; симпатизируя Павлу как личности, даже порой идеализируя его, Толстой тем не менее понимал его обреченность: даже самодержавный царь не может создать то, для чего нет исторической основы. Нельзя (по Толстому) “выдумывать жизнь и требовать ее осуществления”».
И, внимательно читая дневник, пробиваясь сквозь плотную массу исторических фактов, современных автору событий, личных признаний, пересказов важных и неважных, на первый взгляд, бесед, мы оказываемся лицом к лицу с трагическим «парадоксом Эйдельмана». Такого, казалось бы, жизнелюбивого, сильного, энергичного Эйдельмана тяготила его яркая, насыщенная жизнь. В дневнике попадаются пронзительные записи. Вот одна из них – обращенная к недавно умершему отцу:
«Милый мой, ты слышишь ли меня? Где ты? Сколько еще дней?.. Скорее, Господи!!! Вот так люди всю жизнь торопят жизнь».
В мировидении, а стало быть, и в судьбе Эйдельмана была одна фундаментальная черта, роднившая его с Толстым. Оба они понимали неизбежность естественного хода истории и губительность резкого воздействия на него. Но того и другого мучила несправедливость происходившего и происходящего. Сознание детерминированности событий не снимало изнурительного дискомфорта.
Возникало жестокое противоречие. С одной стороны, Эйдельман-историк изучал и воспроизводил (как говорилось, разными методами) картину прошлого, с другой – Эйдельман-гуманист, человек необычайной доброты и терпимости, обремененный обостренным чувством справедливости, не мог внутренне примириться с неоправданной жестокостью процесса.
По прочтении – уже не первом – «Иосифа и его братьев» он записал: «…Лучшее – Иосифа везут купцы и учат, что время даст всему вызреть само…» Он понимал, что мудрость – в этом. Но примириться не мог. Отсюда его самоубийственно интенсивная деятельность просветителя, которая еще далеко не оценена. Он «жил слишком быстро». Отсюда неимоверная плотность дневниковой ткани – стремление запечатлеть все, остановить это бесконечное мгновение, называемое историей, чтобы, всмотревшись, разглядеть зерна благородства.
Отсюда – гомерические планы: записи, поражающие многообразием будущих тем для книг. Это было не просто талантливое изучение и воспроизведение истории, это была постоянная борьба с реальной историей во имя справедливости.
Как ни странно это звучит, но если бы я писал книгу об Эйдельмане, я назвал бы ее «Человек против истории».
Толстой, изнемогший – по тем же причинам – в единоборстве с историческим материалом, отринул его и принялся писать «Анну Каренину».
У Эйдельмана не было возможности такого маневра. Но он написал «Большого Жанно» – свой вариант истории. Думаю, что это, быть может, неосознанный подступ к его главной книге – книге вне жанра и с сюжетом вне времени, вернее – во всех временах, концентрат его представлений о справедливом мире.
Вероятно, чем дальше, несмотря на, так сказать, стабилизацию внешних обстоятельств, внутренний конфликт становился все определеннее. Это особенно очевидно в дневнике «перестроечного» периода, когда люди эйдельмановского круга жили надеждой на благие перемены, а у Эйдельмана появилось множество возможностей, о которых до того не приходилось мечтать.
В дневниках за 1970-е – начало 1980-х годов есть немало страшных записей. Это можно объяснить и личными обстоятельствами, и мерзостью политической, торжествовавшей вокруг. В мае 1977 года:
«Кошмарные дни… Мысли о близости конца (одна дама находит, что я похож на смертника) – но я вычислил себе 57–58 лет (Лунин, Пущин, Герцен)».
Он мучительно переживал смерть отца, умиранию которого посвящены пронзительные и трогательные записи. Его терзали катастрофические предчувствия, касающиеся судьбы страны. В марте 1980 года:
«Апокалиптичность. Ощущение позднеримского конца времен».
Дневник 1984 года – мрачное, мертвое время – заканчивается записью:
«Усталость… – и открытия, открытия. Попробую еще пожить».
Все это легко объяснимо. Но чем объяснить запись апреля 1987 года:
«…Усталость, спад, мысли о самоубийстве, 2117 годе, слезы».
2117 год – случайная цифра, увиденный номер впереди идущей машины – двухсотлетие революции, мысль о своей правнучке – еще не рожденной! – которой, возможно, придется жить в том году. И что ее ждет в этой истории?
Вообще, дневник 1985–1989 годов, последнего пятилетия жизни Эйдельмана, – удивительный сплав лапидарно, но ярко запечатленных роковых событий и сущностных черт наступающей новой эпохи, которую он, безусловно, приблизил своими книгами и своим неистовым гуманистическим просветительством, энергичной фиксации бесчисленных творческих замыслов и свершений и безжалостно нарастающего экзистенциального отчаяния.
Разумеется, были внешние факторы, отравляющие его жизнь. Его терзало наступление агрессивного шовинизма, которому власть не умела противостоять. Особую роль в его жизни тех лет сыграл тяжкий конфликт с Виктором Астафьевым, которого он высоко ценил как писателя. Эйдельман постоянно с горечью возвращается к этому сюжету. Была отвратительная малограмотная травля, развязанная неким А. Мальгиным и И. Зильберштейном в «Литературной газете» по поводу блистательного «Большого Жанно».
Но все это было преодолимо, если помнить об интеллектуальной и душевной мощи Эйдельмана, о сознании важности его дела, о тесном дружеском круге, состоящем из людей незаурядных, о тяге к нему людей новых поколений, о его оглушительной популярности.
Все это было преодолимо, если бы здесь не расходились линии жизни и судьбы, судьбы, которую и определяла его библейская по своему масштабу схватка с несправедливостью мировой истории, заставляющая его жить «слишком быстро» и внутренне столь мучительно.
Его мистическая уверенность в предопределенности жизненного срока, о котором он пишет в дневнике, – смертный рубеж его главных героев – Лунина, Пущина, Герцена, свидетельствует о его абсолютном психологическом включении в цельный исторический контекст, об отождествлении своей судьбы с судьбами тех, кого он выбрал в качестве эталонных для себя фигур.
Дневник куда явственнее говорит о роковой нерасторжимости связей Эйдельмана с историческим потоком, чем его книги. Он был и ощущал себя отнюдь не просто последователем – он был живым персонажем воссоздаваемой им исторической драмы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: