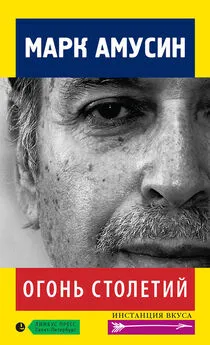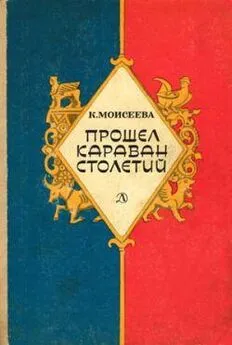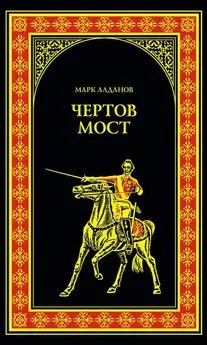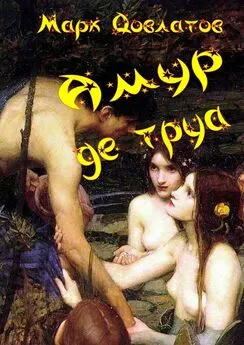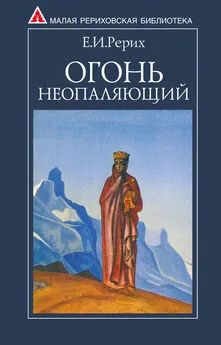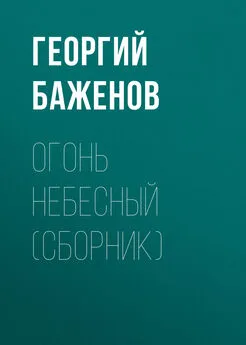Марк Амусин - Огонь столетий (сборник)
- Название:Огонь столетий (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство К.Тублина («Лимбус Пресс»)a95f7158-2489-102b-9d2a-1f07c3bd69d8
- Год:2015
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-8370-0707-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марк Амусин - Огонь столетий (сборник) краткое содержание
Новый сборник статей критика и литературоведа Марка Амусина «Огонь столетий» охватывает широкий спектр имен и явлений современной – и не только – литературы.
Книга состоит из трех частей. Первая представляет собой серию портретов видных российских прозаиков советского и постсоветского периодов (от Юрия Трифонова до Дмитрия Быкова), с прибавлением юбилейного очерка об Александре Герцене и обзора литературных отображений «революции 90-х». Во второй части анализируется диалектика сохранения классических традиций и их преодоления в работе ленинградско-петербургских прозаиков второй половины прошлого – начала нынешнего веков. Статьи, образующие третью часть книги, посвящены сложному полуторавековому диалогу русской и иноязычных литератур (представленных такими именами, как Дж. Конрад и Макс Фриш, Лем и Кортасар).
Огонь столетий (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В 1867 году, завершая «Былое и думы», Герцен пророчествует о безрадостном будущем Европы – ее мирная, мещански усредненная жизнь под властью французского и германского цезаризма должна взорваться катаклизмом войны: «Теперь пойдут озера крови, моря крови, горы трупов… а там тиф, голод, пожары, пустыри». В какой степени сбылся этот апокалиптический прогноз?
Спустя 2–3 года действительно разразилась кровопролитная по тем временам франко-прусская война, а ее прямым следствием явилось восстание французских пролетариев – Парижская коммуна с ее эксцессами, а также не менее жестокое ее подавление. Но за этим последовали не всеобщее разрушение и хаос, а сорок лет благополучного европейского развития, которое привело и к улучшению положения трудящихся классов. Казалось бы, вопреки предсказаниям Герцена, реакция отступила, призрак революции рассеялся, реформизм восторжествовал. (О борьбе этих трех начал – революции, эволюции и реакции – Герцен постоянно и напряженно размышлял.) Но потом случилась Первая мировая, с которой и начался «настоящий, не календарный» XX век – со всеми его виражами, миражами и жестокими чудесами. Так прав оказался Герцен или ошибся? Каверзный вопрос!
Особый разговор о «социалистических заблуждениях» нашего героя. Начиная с 40-х годов XIX века идея отмены частной собственности и организации общежития на новых экономических основаниях стала «хитом» в кругах тогдашних продвинутых интеллектуалов Европы. Для этого в Европе было достаточно оснований: пролетаризация значительных слоев населения, постоянное ухудшение условий жизни промышленных рабочих. Массы неимущих были близки к отчаянию, их протест все чаще принимал насильственные формы, пока дело не дошло до грандиозного и кровавого Июньского восстания 1848 года в Париже. Пресловутый призрак, бродящий по Европе, не был досужей выдумкой Маркса и Энгельса.
Примкнул ли Герцен, созревавший как мыслитель в патриархальных российских условиях, к социалистам исключительно в силу интеллектуальной моды? Пожалуй, в этом что-то есть, хотя нельзя недооценивать и общий гуманистический посыл социалистического учения: возмущение крепостничеством, собственностью на людей легко распространялось на всякую собственность. А наблюдая – в эмиграции – вблизи весь драматизм «рабочего вопроса», Герцен уверился в том, что разрешить его мирным, эволюционным путем не удастся.
Тут его можно упрекнуть за неправильную оценку ситуации – как и Прудона, Бакунина, Луи Блана, основоположников марксизма и других. Капиталистический способ производства – или, говоря шире и в герценовской терминологии, весь общественно-культурный строй европейской жизни – оказался намного гибче, способнее к самоизменению, чем предполагалось его критиками. Значит ли это, что Герцен по отношению к социализму был кругом не прав и повинен в распространении ошибочного и вредоносного учения на российской почве, в приготовлении этой почвы к большевистскому перевороту?
Социалистический идеал в ретроспективе вовсе не заслуживает чисто негативной оценки. Я уж не говорю о том, что именно готовность пролетариев к самым отчаянным действиям, вызванная как объективной безысходностью их положения, так и активностью социалистической пропаганды, побудила имущие классы поделиться частью своей экономической и политической власти. Сверх того – принципы социальной справедливости, социальной демократии наложили мощный отпечаток на всю историю XX века и во многом отчеканили профиль современной европейской цивилизации (то, что сегодня этот профиль резко меняется – совсем другая тема).
Но и по отношению к собственным убеждениям Герцен вовсе не был догматиком – и этим заметно отличался от следующих поколений «борцов за идею», от Нечаева до Троцкого и Сталина. В последние годы своей жизни он изрядно разошелся с неистовым и нетерпеливым ниспровергателем всего сущего Бакуниным и проповедовал социальные перемены, синхронизированные с темпом изменений коллективного сознания народных масс.
Впрочем, и задолго до этого Герцен был очень далек от идей казарменного коммунизма, декретирования революции, вкоренения коммунистического учения посредством гильотины или государственной монополии на мысль. Вот уж в чем его нельзя было упрекнуть, так это в доктринерстве, будь то революционном или коммунистическом. Герцен писал, что «исполнение социализма» явит собой «неожиданное сочетание отвлеченного учения с существующими фактами». Он, как и другие «свободные умы», совершенно не стремился предугадать, тем более регламентировать конкретное устройство нового, справедливого общества – для него был важен сам принцип преодоления частной собственности.
Совершенно очевидно, что «государственный социализм» сталинского образца его возмутил бы ничуть не меньше, чем имперский николаевский порядок. На административные мечтания Фурье или немецких уравнительных коммунистов он смотрел снисходительно, как на неизбежные детские болезни, но мириться с ними не соглашался. Гораздо ближе ему был воспитательно-педагогический подход Роберта Оуэна.
Что же до его критики буржуазного порядка, то в ней есть немало применимого и к сегодняшней реальности. Герцен, конечно, не мог предвидеть постиндустриализма, общества потребления, информационной революции, постмодернизма и прочих атрибутов нашего бытия. Однако некоторые эпохальные тенденции он уловил еще тогда, когда XIX век только перевалил за середину. Многие его суждения: о консолидации общественной и культурной жизни на уровне посредственности, о тирании материальных интересов, о власти привычки и инерции, о распылении «больших смыслов» – кажутся очень точными по отношению к нашему времени. У меня порой создается впечатление, что Герцен лучше понимал будущее, чем многие наши современники – прошлое.
Кстати, совсем не лишены актуальности и практического смысла в условиях современной России соображения Герцена о необходимости общественной «самодеятельности», гражданской самоорганизации на местном уровне, о пагубности чрезмерной централизации.
Если отвлечься от конкретного содержания герценовского мировоззрения, от его исторически обусловленных убеждений, притяжений и отталкиваний, то в его наследии остается еще то, что я определил бы как «правила интеллектуальной и идеологической гигиены». Правда, сегодня, в «не мытой России», равно как и в столь же замызганной «мировой деревне», они звучат несколько странно, как наставления каннибалам чистить зубы перед сном. И все же – вот некоторые из них. Правота не есть функция национальной или религиозной принадлежности. Оппонента не только следует выслушивать, но стоит еще и вдумываться в его аргументацию. Несогласные с тобой тоже могут стремиться к истине и благу. Не следует творить себе кумира из собственных убеждений и даже устоев – их нужно периодически поверять сомнением и критикой.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: