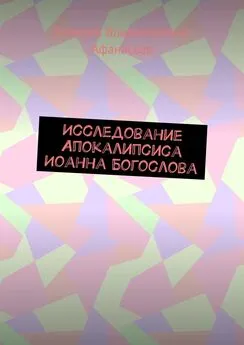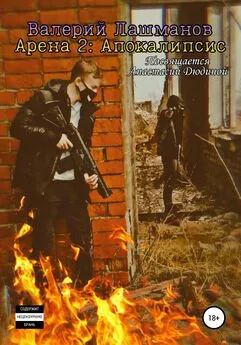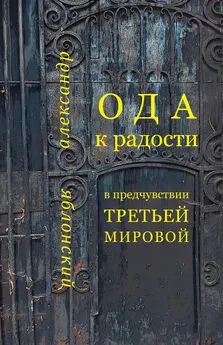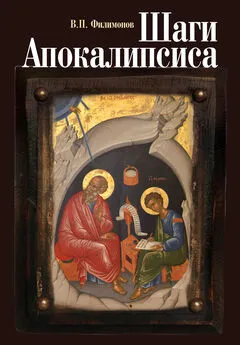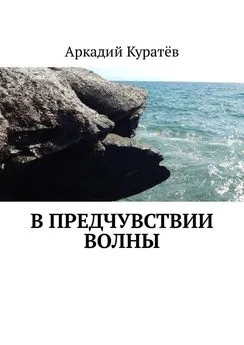Валерий Сдобняков - В предчувствии апокалипсиса
- Название:В предчувствии апокалипсиса
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Родное пепелище»0a919b56-95ea-11e6-b088-0cc47a52085c
- Год:2013
- Город:Нижний Новгород
- ISBN:978-5-85480-007-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Сдобняков - В предчувствии апокалипсиса краткое содержание
В книге собраны беседы главного редактора журнала «Вертикаль. XXI век» Валерия Сдобнякова с известными деятелями русской культуры, науки, политики, производства. Тексты этих бесед, которые раскрывают многие ранее неизвестные подавляющему большинству читателей факты из новейшей истории России, публиковались в самых авторитетных периодических изданиях у нас в стране и за рубежом и неизменно вызывали самый живой интерес у людей, неравнодушных к судьбе нашего Отечества.
В предчувствии апокалипсиса - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Борьба за народное дело пока не заканчивается победой. Ещё со времён Спартака, когда кровавая сеча закончилась поражением рабов, мы, независимые, непокорённые, терпим поражение, потому что власть всегда оказывается в руках лукавых и коварных, которые хотят вкусно есть и сладко пить…
Наш боевой редут по-прежнему ещё впереди. Надо собраться с силами и с умом, может, тогда что-нибудь и получится в заботе о народном деле.
Я помню – в разговоре о влиянии современной литературы на социально-государственные деяния Леонид Максимович Леонов рассказал мне, как он, тогда уже признанный советский депутат Верховного Совета СССР, после выхода в свет романа «Русский лес» ожидал от правительства и общественности чуть ли не революционных мер по защите русского леса. Ему казалось – с такой беспощадностью он описал беды русского леса. Но на самом деле ничего не произошло. Его похвалили, дали государственную премию. Тем всё дело и ограничилось, даже комитета по сохранению леса не создали, хотя было очевидно, что леса, огромными массивами вырубленные в годы войны и после войны, нуждались в немедленном восстановлении. «Наше писательское нетерпение – исправить бедственное положение – не всегда находит понимание», – Леонид Максимович грустно улыбнулся.
B. C.По своей стилистике «Раскаянье» всё-таки больше философское произведение, чем художественное – так оно перегружено внутренними монологами и диалогами с теми, кого встречает Алексей на своём пути. Это в значительной степени отличает его от «Лидиной гари», где больший акцент сделан именно на художественность. Такой повествовательный ход был вами выбран сознательно, не случайно, или его продиктовало «наступившее время», когда надо было говорить с читателями о наболевшем напрямую?
А. Л.Я с вами не согласен. Художественность имеет многообразные формы. К примеру, «Записки из мёртвого дома» Фёдора Достоевского, можно сказать, мало художественны, или «Выбранные места из переписки с друзьями» Николая Гоголя, из-за которых он перессорился со всеми старыми друзьями. А для меня эти произведения – высочайшие явления художественности в русской литературе.
Ни в коей мере я не хочу равнять написанное мной с классической прозой. Но могу объяснить, что три моих романа, каждый из них, имеют свое назначение. А отсюда и степень живописания. «Лидина гарь» – романтическое повествование. Мальчик Юрья познаёт этот жестокий мир в красках, запахах, чувствах, слёзных переживаниях, полных самых неожиданных видений… «Рок» – смертельная дуэль Конобеева и Легостаева не терпит никакого украшательства. Там чёрная тень не на миг не исчезает. «Раскаянье» – духовный репортаж из дома скорби (из дома сумасшедших). Какие там могут быть сентименты?! Побеждай, или тебя победят, но уже смертельно. Как это и случилось с Костроминым. Для меня философичность – такая же художественность, если ты умеешь, точнее, если ты владеешь этим. Может быть, даже философичность – вершина художественности. Как говорят, краткость – сестра таланта.
B. C.Давайте поговорим о вашей книге «Заповеди блаженства». Я в своё время прочитал её просто взахлёб, не отрываясь. Расскажите, как она создавалась.
А. Л.Создание этой книги – слишком долгая история. Она собиралась все годы нашей дружбы с Семёном Степановичем Гейченко. Это добрых тридцать лет. И не знаю, когда бы она закончилась, если бы не тяжёлая болезнь Семена Степановича. А мне хотелось, чтобы он подержал её в руках. Потому что это книга о моей любви к Пушкину, Михайловскому и Семёну Степановичу.
Но писалась быстро, точнее, я собирал её из многолетних заготовок, собирал месяц, посидев в Переделкино в Доме творчества. И такие когда-то существовали добрые времена. Успел, Семён Степанович подержал в руках и рукопись, и первое издание «Заповедей…». По стариковской сентиментальности прослезился. Он знал, что плохого, завистливого я о нём не скажу, как публично случилось с Юрием Нагибиным и Валентином Курбатовым. Оба много лет пользовались хлебосольством и радушным гостеприимством, наезжая в Михайловское. А не удержались от злословия, недобрых оговоров и весьма распространённых сплетен. Хозяин был хлебосол и чистосердечен, иногда в пылу романтического азарта говорил и лишнее, не для чужих ушей.
B. C.В своей книге «Из-под самого сердца» вы поместили ряд очерков и статей, посвященных таким писателям, как Фёдор Абрамов, Пётр Проскурин, Леонид Леонов и другим. Но ведь с каждым из них судьба свела по отдельности и свой срок. Как это произошло? И вообще, что это были за люди, за личности в обыденном человеческом понимании?
А. Л.Многим встречам с известными людьми и дружбе с ними я обязан газете «Советская Россия», где я работал редактором в отделе литературы и искусства целых пятнадцать лет! В самую активную творческую пору. Газета тогда была популярной, а с приходом главным редактором Михаила Фёдоровича Ненашева горизонты её расширились, и круг авторов необыкновенно возрос, пришли писатели, художники, деятели искусства. К газете появился серьёзный общественный интерес. Именно в ту пору у нас появились Фёдор Абрамов, Юрий Бондарев, Пётр Проскурин, Леонид Леонов и много других выдающихся современников. Работать с ними было интересно, так же, как и дружить.
Что касается каких-либо оценок и характеристик, я воздержусь. Научен горьким опытом.
B. C.Когда вы пришли в журнал «В мире книг», что из себя представляло это издание и почему вдруг захотелось переменить его название?
А. Л.В те годы, когда я пришёл в редакцию журнала «В мире книг», это было издание аннотированных заметок о новых изданиях. И названия типа «В мире книг», в «Мире животных», «Журналист», «Работница», обезличенные и как бы беспартийно-идеологические, без внутренней смысловой нагрузки, были в моде. Хозяин тогдашней цековской идеологии любил всё обезличенное, без ярких персон. Рассказывают, что он ездил со скоростью не более шестидесяти километров и во всякую погоду носил калоши, как бы чего не случилось…
Как тут было не сменить название, время уже позволяло идти путём перемен.
B. C.В шестидесятые годы прошлого века «во весь голос» заявила о себе «деревенская» литература. И судя по тому шуму, который вокруг неё происходил, мы вправе были ждать от авторов этого направления каких-то больших художественных открытий. И они, эти открытия, вроде бы даже происходили. Не стану тут перечислять фамилии известных всем авторов и названия их произведений. Скажу лишь, что меня вот уже многие годы не покидает ощущение какого-то разочарования. Почвенническая литература, констатировавшая совершавшуюся гибель русской деревни, как мне кажется, не выработала пути выхода из кризиса, не подсказала их, не укрепила нацию духовно. Она не оказалась той нравственной, духовной опорой, которой была сразу после войны и продолжает оставаться сейчас военная литература. Как вы считаете, верны ли мои ощущения? Не кажется ли вам, что этот путь в литературе оказался вроде бы в какой-то мере ложным и закончился ничем? Просто это направление в литературном процессе тихо сошло на нет, умерло, будто его и не было.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
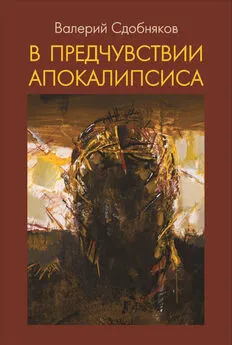

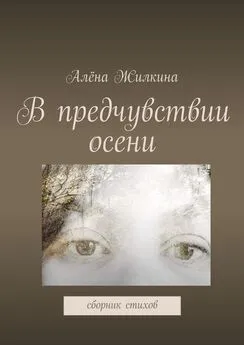
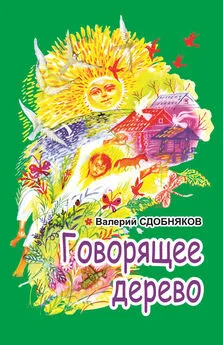

![Ника Иванова - В предчувствии атаки [СИ]](/books/1057521/nika-ivanova-v-predchuvstvii-ataki-si.webp)