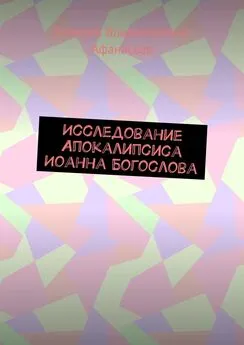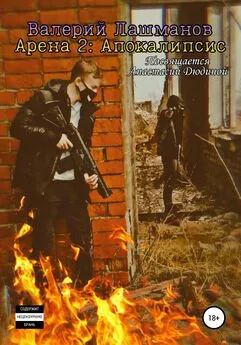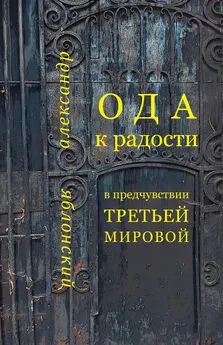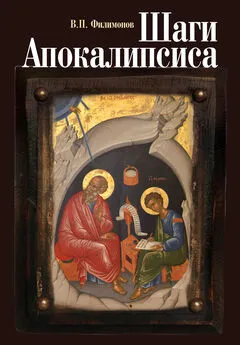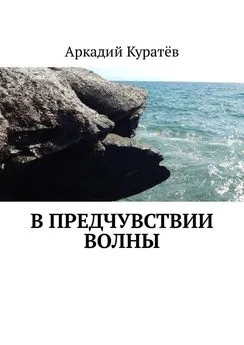Валерий Сдобняков - В предчувствии апокалипсиса
- Название:В предчувствии апокалипсиса
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Родное пепелище»0a919b56-95ea-11e6-b088-0cc47a52085c
- Год:2013
- Город:Нижний Новгород
- ISBN:978-5-85480-007-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Сдобняков - В предчувствии апокалипсиса краткое содержание
В книге собраны беседы главного редактора журнала «Вертикаль. XXI век» Валерия Сдобнякова с известными деятелями русской культуры, науки, политики, производства. Тексты этих бесед, которые раскрывают многие ранее неизвестные подавляющему большинству читателей факты из новейшей истории России, публиковались в самых авторитетных периодических изданиях у нас в стране и за рубежом и неизменно вызывали самый живой интерес у людей, неравнодушных к судьбе нашего Отечества.
В предчувствии апокалипсиса - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Музыка, напротив, мне понятно, откуда рождается. Это общение с вечностью, общение с космосом, общение с небом. Оттуда поступают, там рождаются какие-то лучи, частицы и устремляются к Земле. И находят человека – талантливого композитора, музыканта, сообщают ему это чудо-музыку, мелодию. Поэтому музыка – самая чистая, самая бескорыстная истина, которая не нуждается в объяснении. Ну попробуйте объяснить «Аппассионату» Бетховена, или произведения Чайковского. Словами вы сразу оскверните эту гениальную музыку.
B. C.Внешними объяснениями даже близко нельзя подойти к пониманию этих великих творений.
Ю. Б.Человек может наговорить только глупости – в смысле объяснительных слов относительно музыкальных произведений. Когда есть истина – святая, бескорыстная, не лукавая, не ложная – это не может не поражать, и прикасаться к ней грубым словом не следует. В этом я убеждён. Проза же, я думаю, связана с какими-то внешними, земными толчками. Вы идёте по улице и вдруг слышите постороннюю фразу. Она вас непосредственно не касается, но вы запоминаете её и даже думаете про себя – как хорошо сказано. Или напротив – как зло сказано. Но фраза эта в вас засела. Затем вы видите лицо человека, например, женское – с правильными красивыми чертами, с удивившим вас блеском в глазах, и у вас возникает какая-то мысль об этой женщине – кто она, чему радуется, с кем она. Так же в отношении мужчин. Очень часто я смотрю на лицо кого-нибудь из них и задаю себе вопрос – как бы он повёл себя возле орудия, когда на него идёт шесть танков. И я представляю, как. Всё это я вижу по лицу. Лицо, между прочим, очень о многом говорит. Я, например, по лицу могу угадать профессию человека. Так что рождение прозы связано вот с такими неожиданными толчками, с какими-то явлениями, которые происходят на ваших глазах, действиями, поступками, переживаниями.
B. C.Но удивительно то, что все эти случайности одного могут подтолкнуть к написанию «Берега» или «Горячего снега», а другого никогда. В этом заключается неведомое нам, не объяснимое для нас чудо. Это чудо называется – рождение художника.
Ю. Б.На это у меня тоже есть ответ. Знаете, мне кажется, что бы и кто бы ни говорил, но один из самых страшных пороков, распространённых в среде художников, это зависть. Почему? Потому что превосходство другого таланта, с одной стороны, порождает чувство соперничества, но, с другой, и бессилия, оттого, что невозможно заимствовать чужой талант. Потому зависть переходит в ненависть. А это страшное дело. Я глубоко убеждён, что заимствовать нельзя не только талант, но и его составляющие – смелость, великодушие, мужество, честность и т. д. Всё это уже есть в человеке, в его генах.
B. C.Иными словами – уже предопределено.
Ю. Б.Всё это корнями уходит в дальнюю даль. К прадедам нашим, за прадедов. Где-то, на каком-то периоде в роду был человек, который воспринимал природу не как дрова, а ещё и несколько иначе. Тоньше, любовнее, красочнее. У пишущего же человека должен произойти в определённом возрасте толчок, благодаря которому должно что-то возникнуть, чтобы заложенное в генах пробудилось в ином состоянии. Вот мой пример. Я очень обязан маме своей за то, что она с детства приучала нас, своих детей, которых у неё было трое, к литературе. Мама читала нам сказки, детские книги, много рассказывала. Затем мне повезло и с учительницей. Где-то в шестом или седьмом классе она нам дала задание – написать сочинение на тему, кто как провёл лето. Я его написал. И вдруг на уроке русского языка эта учительница зачитывает моё сочинение вслух. А затем после урока в коридоре она мне сказала: «Юра, у тебя что-то есть литературное. Поэтому, когда читаешь книги, то присматривайся, как писатель описывает природу, выстраивает сюжет». Я этого, конечно, всё равно не делал, но всё-таки и учительница что-то мне дала, что-то во мне пробудила. Но пробудила то, что уже где-то в глубине меня самого жило. Ну а потом, после войны, вечерами, отдыхая от тех гулянок, на которых мы праздновали Победу (а нам тогда заплатили большие деньги за подбитые танки, выпить мы любили, привыкли к этому ещё с фронта, с ежедневных ста грамм фронтовых), оставался я один. И тогда что-то начало возникать в сознании, связанное с войной. И я написал первый свой рассказ. Так началась эта моя «болезнь», которая продолжается и по сию пору.
B. C.После первого рассказа дальнейший путь оказался предопределённым, отказаться от него было уже нельзя. Не отпустило бы.
Ю. Б.Да, потом я написал повесть о войне, которую где-то потерял.
B. C.Значит, первую повесть читатели так и не увидели?
Ю. Б.Нет. Она была ученической, но в смысле конфликтов и в отношениях героев было всё правильно, правдиво, как на войне. Так что я думаю, всё приходит оттуда, издалека. Литературный институт, который и я закончил, писать никогда и никого не научит. Я учился в семинаре Паустовского. Это был замечательный человек. Я до сих пор отношусь к нему с глубоким почтением. Он приучил нас любить слово. Он зачитывал нам вслух какие-то произведения Пришвина, Булгакова, а затем размышлял, спрашивая и нас, почему, например, в этом тексте использован именно такой эпитет. И ещё вот что было одним из самых главных – Паустовский приучал нас начинать писать рассказ только тогда, когда мы понимали, что уловили настроение. И у меня много было написано рассказов-настроений. То есть это что-то в рассказе происходит, но это должно быть написано с настроением.
B. C.Неравнодушно.
Ю. Б.Да.
B. C.Когда вы учились в Литературном институте, уже ощущалось какое-то писательское расслоение не только по художественному таланту, но и по политическим предпочтениям, пристрастиям? Ведь один пришёл в литературу по зову своего таланта, другой по зову совести, третий, что это престижно и можно хорошо зарабатывать, быть на виду, тешить своё тщеславие. Спрашиваю, исходя из того, что именно из этого поколения писателей затем пришли в политику те, кто рушил Советский Союз.
Ю. Б.Нет, материальной стороны в тогдашних предпочтениях студентов литинститута не чувствовалось. Но было видно – одним глубокий литературный труд, вдумчивая работа со словом «ложились на душу», им это нравилось, и они в нём преуспевали. Это совпадало с их мыслями, их миропониманием. Другие считали это лишним, сентиментальным. Но я убеждён в другом – главное для писателя – это работать, работать и ещё раз работать. Как только писатель перестаёт работать, так он и теряет все свои профессиональные качества. А работать надо даже тогда, когда этого не хочется. Не то чтобы заставлять себя. Нет. Но ведь стол – это магнит. Стоит за него сесть, написать несколько фраз, и эти написанные фразы уже заставляют тебя двигаться дальше, думать.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
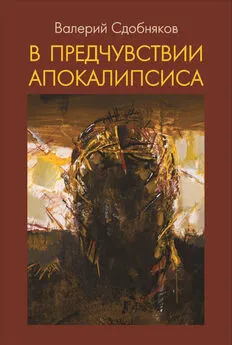

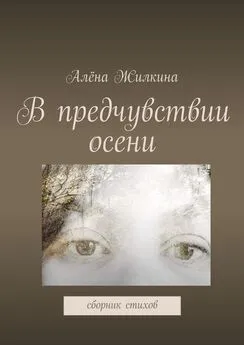
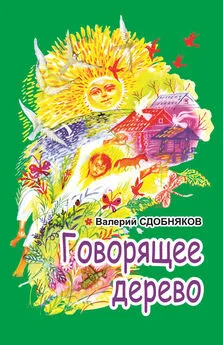

![Ника Иванова - В предчувствии атаки [СИ]](/books/1057521/nika-ivanova-v-predchuvstvii-ataki-si.webp)