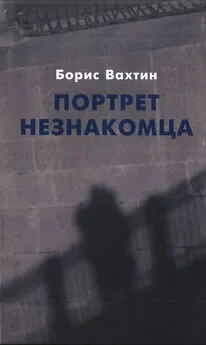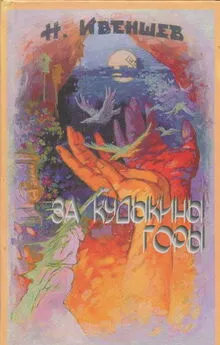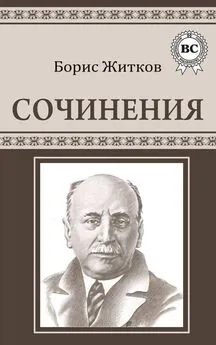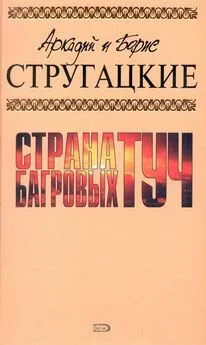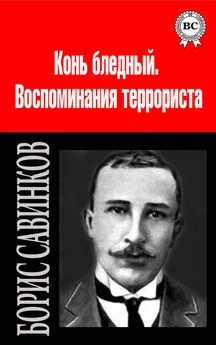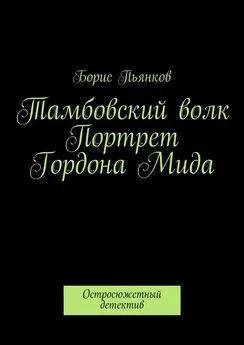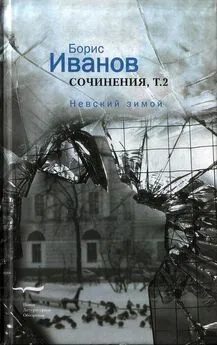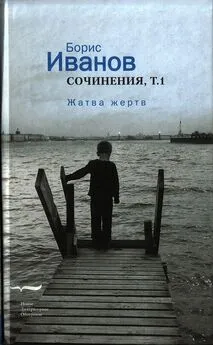Борис Вахтин - Портрет незнакомца. Сочинения
- Название:Портрет незнакомца. Сочинения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Журнал «Звезда»
- Год:2010
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-7439-0149-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Вахтин - Портрет незнакомца. Сочинения краткое содержание
В книге представлена художественная проза и публицистика петербургского писателя Бориса Вахтина (1930–1981). Ученый, переводчик, общественный деятель, он не дожил до публикации своих книг; небольшие сборники прозы и публицистики вышли только в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Тем не менее Борис Вахтин был заметной фигурой культурной и литературной жизни в 1960–1970-е годы, одним из лидеров молодых ленинградских писателей. Вместе с В. Марамзиным, И. Ефимовым, В. Губиным, позднее — С. Довлатовым создал литературную группу «Горожане». Его повесть «Дубленка» вошла в знаменитый альманах «МетрОполь» (1979). По киносценарию, написанному им в соавторстве с Петром Фоменко, был снят один из самых щемящих фильмов о войне — телефильм «На всю оставшуюся жизнь» (1975). Уже в 1990-е годы повесть «Одна абсолютно счастливая деревня» легла в основу знаменитого спектакля Мастерской Петра Фоменко.
Портрет незнакомца. Сочинения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Причисляя себя к неученым, Федоров считает необходимым напомнить от их имени ученым о назначении последних:
«а) обратиться к изучению силы, производящей неурожаи, смертные язвы, т. е. обратиться к изучению природы как силы смертоносной, обратиться к этому изучению, как долгу священному и вместе самому простому, естественному и понятному; и б) объединить всех, ученых и неученых, в деле изучения и управления слепою силою».
Мы встречаем у Федорова те же традиционные русские идеи, но уже не в поэтической форме изложенные, а деловым, почти канцелярским слогом; но Федоров понимает природу так, как до него никто ее, пожалуй, не понимал — как слепую силу, как источник смертельной опасности для людей. И как истинный русский он делает и еще один шаг — указывает путь к спасению. Последим дальше за ходом его мыслей:
«Ученые, разбившие науку на множество отдельных наук, воображают, что гнетущие и обрушивающиеся на нас бедствия находятся в ведомстве специальных знаний, а не составляют общего вопроса для всех, вопроса о неродственном отношении слепой силы к нам, разумным существам, которая ничего от нас, повидимому, и не требует, кроме того, чего в ней нет, чего ей недостает, т. е. разума правящего, регуляции. Конечно, регуляция невозможна при нашей розни, но рознь потому и существует, что нет общего дела; в регуляции же, в управлении силами слепой природы и заключается то великое дело, которое может и должно стать общим».
Здесь Федоров делает любопытнейшее примечание:
«Страх голода, неурожая, диктовал эту записку, исходным пунктом которой приняты общие бедствия, происходящие от слепой силы природы, а не сострадание к бедным, всегда скрывающее зависть к богатым».
Отметим здесь особо: уже у Федорова встречаем мы слова об отношении природы (слепой силы) к нам и идею о том, что наше особенное свойство, наш разум нужен природе. Зачем же нужен?
«Разум практический, равный по объему теоретическому, и есть разум правящий, или регуляция, т. е. обращение слепого хода природы в разумный; такое обращение для ученых должно казаться нарушением порядка, хотя этот их порядок вносит только беспорядок в среду людей, поражая их и голодом, и язвою, и смертью».
Как же спасаться?
Федоров указывает свой путь — на первый взгляд, фантастический, но если вдуматься — совершенно трезвый и, более того, едва ли не единственно разумный:
«Под вопросом „о братстве и причинах небратского состояния мира“ мы разумеем и условия, при которых может и должно быть осуществлено братство, и даже преимущественно эти условия… Это вопрос о том, что нужно делать для выхода из небратского состояния».
«Под небратским состоянием мы разумеем все юридико-экономические отношения, сословность и международную рознь. В вопросе о причинах неродственности под неродственностью мы разумеем „гражданственность“, или „цивилизацию“, заменившую „братственность“, разумеем и „государственность“, заменившую „отечественность“. Отечественность — это не патриотизм, который вместо любви к отцам сделал их предметом своей гордости… Но как только гордость подвигами отцов заменится сокрушением об их смерти, как только землю будем рассматривать как кладбище, а природу как силу смертоносную, так и вопрос политический заменится физическим, причем физическое не будет отделяться от астрономического, т. е. земля будет признаваться небесным телом, а звезды — землями. Соединение всех наук в астрономии есть самое простое, естественное, неученое, требуемое столько же чувством, как и умом неотвлеченным, ибо этим соединением мифическая патрофикация обращается в действительное воскрешение, или в регуляцию всех миров всеми воскрешенными поколениями».
Огромная, необъятная мысль! Воскресить отцов, воскресить всех умерших; победить природу — источник смерти; заселить бессмертными существами всю вселенную — вот то общее дело, к которому призывает Федоров. Трудно найти идею более грандиозную, более сумасшедшую, чем эта! Пожалуй, нации, родившей такую мысль, не остается ничего, кроме революции…
Понятно, что грандиозная идея требует изменения всей методики науки:
«…наука не должна быть знанием причин без знания цели, не должна быть знанием причин начальных без знания причин конечных (т. е. знанием для знания, знанием без действия), не должна быть знанием того, что есть, без знания того, что должно быть ; это значит, что наука должна быть знанием причин не вообще, а знанием причин именно небратства, должна быть знанием причин розни, которая делает нас орудиями слепой силы природы, вытеснения старшего поколения младшим, взаимного стеснения, которое ведет к тому же вытеснению <���…> отсюда следует, что смысл братства заключается в объединении всех в общем деле обращения слепой силы природы в орудие разума всего человеческого рода для возвращения вытесненного».
Эта новая методика, предлагаемая Федоровым, формулируется им просто и ясно:
«…как неестественно спрашивать — почему сущее существует, так вполне естественно спросить, почему живущее умирает».
В философии Федорова замечательна его практическая любовь к людям. Вся его философия вышла из евангельских истин, прежде всего из идеи воскресения во плоти. Иногда эту идею понимают как-то, мне кажется, ограниченно и догматично — как некое разовое чудо во время второго пришествия Христа. Но нигде не сказано, как явится Христос, и очень вероятно, что мы Его так же не узнаем, как не узнали и в первый раз. Второе пришествие, возможно, решительно ничем не будет походить на первое, а воскресение во плоти может оказаться вовсе не чудом, а результатом труда и заслуги людей — то есть чудом, но чудом практическим, чудом братского единения людей для победы над смертью, над природой. И в деле воскрешения осуществится суд — окончательная смерть для одних, вечная жизнь для других; в этом ответ и на наш вопрос, всех ли стоит воскрешать, хотя, конечно, суд тот потребует не сегодняшних понятий и критериев.
Федоров отвергает идею прогресса, так как в основе ее лежит сознание превосходства детей над отцами, что противоречит, по его мнению, евангельской заповеди о почитании родителей. Этот довод мы можем и не принимать, но нельзя не согласиться, что в идеи прогресса неизбежно заложены оценки ( вчера оценивается ниже, чем сегодня, а сегодня ниже, чем завтра ), а в этих оценках уже коренится разобщение людей. Отвергает он также и ту концепцию, по которой цель прогресса — «развитая и развивающаяся личность, или наибольшая мера свободы, доступной человеку», так как это тоже ведет к розни, а не к любви живущих (сынов) к умершим (отцам).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: