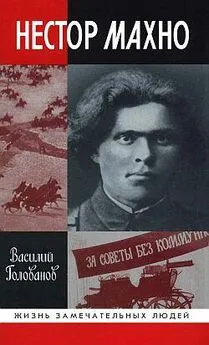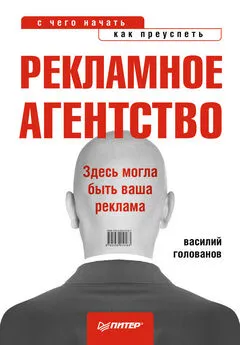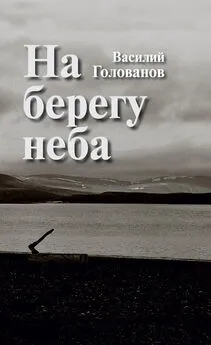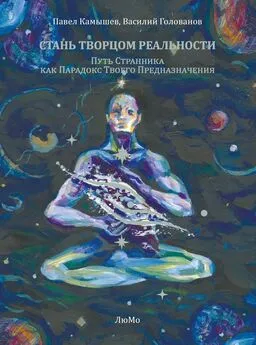Василий Голованов - Остров
- Название:Остров
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вагриус
- Год:2002
- Город:Москва
- ISBN:5-264-00783-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Голованов - Остров краткое содержание
В центре этой книги – невыдуманная история о том, как поиски смысла жизни приводят героя на край света, на пустынный заполярный остров в Баренцевом море, который неожиданно становится территорией спасения, территорией любви и источником вдохновения.
Автор книги, Василий Голованов, уже известный любителям жанра «нон-фикшн» («невыдуманной литературы») по книге «Тачанки с Юга», посвященной Н. Махно, и на этот раз сумел использовать жанр эссе для создания совершенно оригинального произведения, вовлекая своего читателя в мифотворческое – но отнюдь не мифическое! – путешествие, в результате которого рождается «невыдуманный роман», который вы держите в руках.
«Эпоха великих географических открытий безвозвратно минула? – словно бы вопрошает нас и самого себя автор, для того, чтобы заключить. – Да ничего подобного! Земля по-прежнему остается удивительной, загадочной планетой. Просто для того, чтобы столкнуться с тайной, нужно отважиться испытать себя неизвестностью, нужно знать где искать приключений на свою голову!»
Полная тайн история острова Колгуев – маленькой планеты площадью 3,2 тысячи квадратных километров – веский аргумент в пользу того, что это далеко не праздное суждение.
Остров - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ничего подобного в городе Печора не было и выражение его лица я смело определил бы, как олигофреническое, если бы не некоторая подчеркнутая аккуратность, которую город силился себе придать. Впрочем, если что и подчеркивалось этой аккуратностью, то… Как бы это сказать? Отсутствие частности жизни, чего-то неуловимого, что заставляет людей выходить в город, жить в нем, есть, торговать, пить пиво, целоваться на скамейках, постоянно примеривая, приноравливая к себе его дома, дворы, деревья, клочки зелени, постоянно внося в изначальный, архитектурный, линейный план его неисчислимое множество добавлений в виде собственных планов, неимоверно все запутывая и делая, наконец, живым. Может быть, я слишком многого требовал от города Печора, столичный сноб? Вполне вероятно. И этот город не любил меня, отвечая взаимностью. По-видимому, он вообще не любил праздношатающихся заезжих журналистов. Во всяком случае, поесть им было негде. Потому что в городе нет кафе. Как принципа. И отсутствует принцип праздношатания, который подразумевает обязательные лирические паузы: красивый вид, на который можно любоваться, или, на худой конец, витрину, в которую можно пялиться, знакомого лавочника, с которым можно поболтать с утра и хозяина пивной, который после полуночи сам готов пропустить с вами рюмочку, какой-нибудь музей вредных жуков или фетровых шляп, дуб, посаженный в честь рождения наследника престола и, наконец, просто любимое место, хоть кем-то любимое за особую свою прелесть.
Несомненно, своеобразной притягательностью в Печоре обладали старые дома коми-народа, стоящие над рекой, но их было всего с десяток; дальше начинались кварталы совершенно одинаковых пятиэтажек с дровяными сараями во дворах, улицы, на которых буквально не за что было зацепиться: меня протащило по ним, словно газету, скомканную ветром, пока не прибило к рынку, где несколько женщин с Кавказа продавали пуховые платки и теплые шерстяные кофты. В их ряды затесался один мужик, темнолицый, как бывает от суровой и жестокой по отношению к себе жизни. Продавал унты. Еды не было.
Я побрел в район пятиэтажек, смирившись с мыслью, что дохожу голодный до 10 или даже до 11 утра, когда откроются магазины, но тут случайно увидел во дворе старушку, которая с каким-то ласковым причитанием кормила во дворе кур. При этом прямо над нею на крыше сарая собралась шумная стая воробьев, которые верещали и ссорились, ожидая, когда старуха кончит рассыпать пшено и уйдет, и они наконец смогут, спорхнув вниз, в мгновенье ока обожрать этих, огромных-тупых – не знаю уж, как воробьи промеж себя называют кур – короче тех, которые промахиваются, склевывая зерна. Все это показалось мне настолько уморительным, что я подошел поближе, чтобы сфотографировать старушку, кур и воробьев. Подбежал петух и клюнул меня в ногу. Я рассмеялся, старушка стала извиняться, завязался разговор – и в результате через несколько минут я сидел на кухне ее квартирки (на первом этаже пятиэтажки) перед тарелкой с горячей яичницей и чашкой свежего чаю. Все, в чем город отказал мне, дала мне – первому встречному – эта женщина, Галина Тимофеевна. Может быть, у города не было лица, но у него была душа…
Ей было девятнадцать, когда в 44-м умер отец и она осталась одна с одиннадцатилетним братом, в деревне под Питером: «холод, есть нечего, дом после блокады разбит снарядом, санки дров привезешь, наколешь, выдохнешься – а их только на один день и хватает». В ее памяти прошлое проступает, как забота о маленьком братике, единственном родном – сквозь паутину пугающих образов: холод-голод с ввалившимися глазами и растрескавшимися в кровь губами, санки дров, тяжелые, как гроб, снег да снег, да товарные поезда, да гул железный, да замерзшие трупы…
Среднему брату семнадцать было, когда он в выходной с ребятами поехал в Тихвин; обратно поезда нет и нет – айда по шпалам. Сзади товарный. Двое с одной стороны забежали, чтоб на подножку прыгать, он – с другой. Прыгнул раз – промахнулся, другой прыгнул – там на подножке кусок снега оказался, он соскользнул, его и зарезало… Другой пятнадцати лет с каким-то извещеньем тоже так вот поехал до Тихвина, на подножке висел, его и сшибло снежным наметом, только по письму в кармане и опознали люди – кто. Один остался, маленький, в этом доме дырявом, холодном, пустом. И вдруг вернулся самый старший брат – он в войну на бронепоезде служил. Долго ли, коротко – направили его на Север, в Печору, здесь специалисты были нужны. Он-то и вызвал ее с меньшим: делать нечего, приехали. Получили жилье – две комнаты в трехкомнатной коммуналке. Все бы ладно. Да старший пьяный как контуженный был, не соображал ничего, и однажды, напившись, избил сестру до полусмерти, всю ее изломал, голову пробил, так избил, что она долгое время не верила, что отойдет и думала, что будет бесплодна… А отошла, вышла замуж, родила двух дочерей… Вот, они уехали из Печоры. Зятья хорошие. Ну, а у нее квартирка здесь, кошка Муха…
– Ну а младший брат? – зачем-то мне надо узнать все до конца.
– Младший? – переспрашивает она, будто забыла. – Убили его. Случайно. С первой получки взял бутылку. Пришел к старшему. У того жена в отъезде была, пошли в столовую. Сели, разлили. Тут же появился какой-то друг с племянником, что-то слишком шустро начал этой бутылкой шуровать. Старший был крут: «выйдем?» По зубам. Тут же, как водится, и помирились. А племянник за дядю обиделся, за ружьем побежал. По пьяни же. В парке он их нагнал и – младшего почему-то – выстрелом в шею прикончил. А старший через несколько лет сам умер…
Я перестал жевать. На диво страшная, банальная, советская история…
И весь этот город – в ней.
Ты думаешь, это не имеет отношение к бегству, друг мой Петр? Имеет, еще как имеет! Ведь это от этой жизни бессмысленной, жизни без судьбы, без доли и бегу я… Да, она не меня лично коснулась, но она слишком близко вокруг, бессмыслица, еще вдох-другой, и я заражусь, заболею ею, как многие заразились: и художники, и писатели, научившись создавать подлинные драмы из идиотства и абсурда, из вырождения и скотства, из недоли…
А я не хочу этого больше. Просто: не хочу. Сейчас, когда я пишу эти строки, я окончательно понял, что весь ужас нашей прошлой жизни, ужас пережитого коммунизма, которым мы даже гордились перед всем остальным миром, вступив с ним в контакт – он, действительно, ужасен, как ужасны для нас нравы тюрем и лагерей, но, так же, как и рассказы об этих нравах, он никому, кроме самих рассказчиков, не интересен. И правильно неинтересен. Потому что мир огромен и прекрасен, и если у человека есть хотя бы маленький шанс узнать его с этой стороны, грех не воспользоваться им. Конечно, коммунистический садомазохизм – удивительный механизм психической саморегуляции внутри социалистической общины – достоин пристальнейшего изучения специалистов, как одно из важнейших достижений тоталитарной системы. Пусть только изучением его занимается кто-нибудь с более крепкой, чем у меня, психикой. Я сам, если уж на то пошло, продукт былой системы и единственное мое желание сейчас – вырваться из ее удручающих смыслов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: