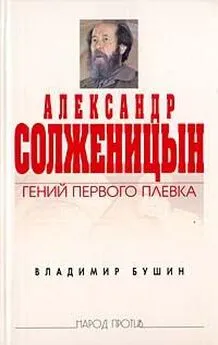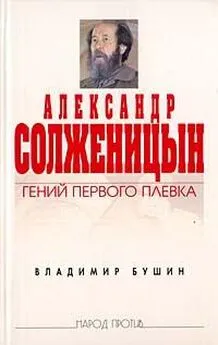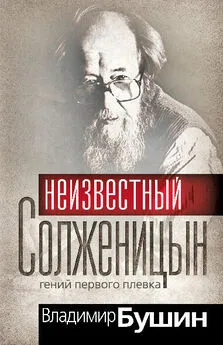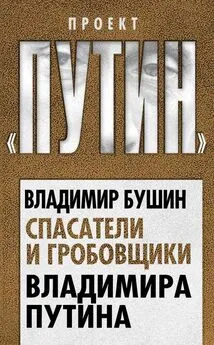Владимир Бушин - Гении и прохиндеи
- Название:Гении и прохиндеи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Бушин - Гении и прохиндеи краткое содержание
Гении и прохиндеи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
"графиня разрешилась от бремени худосочным младенцем", который тут же умер. А вот уже не одна смерть, а две - жены и ребенка главного героя, но и это не меняет тона романиста: "Инфлуэнца, прицепившаяся к Наталье... расширилась (!), углубилась (!!) и в четыре дня прикончила (!!!) княгиню с ребенком". Думается, только при очень уж самобытном и незаурядном таланте можно вот так, походя, в двух фразах, в трех строках "приканчивать" своих персонажей вместе с их детьми.
О мастерстве Б.Окуджавы, о его художнической раскованности еще разительнее, пожалуй, свидетельствует то, что порой об одном и том же персонаже он говорит разные вещи, и это однако ничуть не нарушает цельности образа и не вредит нашему безразличию к нему. Даже главный герой Мятлев не избежал подобной участи. Автор много раз вспоминает о тяжелом ранении, полученном Мятлевым на Кавказе, но первый раз мы читаем, что это была рана в живот, второй - в бедро, третий - в бок... И каков же результат всего этого разнобоя? А никакой. Образы созданы столь мощной художнической дланью, что им не страшны подобные пустяки. Как слонам дробинки. Можно заметить, что даже Лев Толстой при всем его величии не обладал такой художнической свободой, такой творческой безоглядностью. Он не мог себе позволить, например, чтобы в первом томе "Войны и мира" говорилось, что Волконский был ранен на Праценских высотах в голову, а во втором-допустим, в грудь, а в третьем-в ногу... Не мог. И в этом его сословие-классовая ограниченность, от которой свободен наш романист.
Кстати говоря, не мы первыми сопоставляем Б.Окуджаву с титанами прошлого и делаем вывод не в пользу последних. До нас
это мужественно предпринял критик "Литературный газеты" Я. Гордин. В его статье "Любовь и драма Мячлева" роман "Путешествие дилетантов" сопоставляется с такими орлиными взлетами русской классической прозы, как "Повести Белкина" Пушкина, "Герой нашего времени" Лермонтова, "Хаджи Мурат" и кавказские рассказы "Набег", "Рубка леса" Толстого.
Ну, а раз такое дело, то отношение к Окуджаве должно быть, естественно, самое деликатное и осторожное. Понимая эго, Я. Гордин поэтому чрезвычайно озабочен тем, чтоб, не да" бог, как-то задеть романиста, огорчить его, вызвать недовольство. Высказав то или иное суждение, которое, чего доброго, кто-то по необразованности может принять за критическое, Я. Гордин тут же поспешно и прочувствованно присовокупляет: "Вышесказанное вовсе не ставит под сомнение оригинальность произведения Окуджавы". Или: "Утверждение это не имеет ни малейшего негативного оттенка" (даже оттенка!). (Или: "Вышесказанное вовсе не отрицает начитанности автора романа в научной и мемуарной литературе" и т. д.
На страницах не могущего не внушить полного доверия журнала "Наука и жизнь" (№ 12, 77) Б. Окуджава без старомодной скромности заявил: "Персонажи романа стали живыми людьми". Что же делает их живыми? Что придает им такую огромную впечатляющую силу?
По нашим наблюдениям, автор достигает этого прежде всего постоянным настойчивым подчеркиванием того факта, что его создания имеют нормальную для живых людей, а часто и повышенную температуру всего тела или отдельных его частей: "Графиня была тепла"... "Ее разгоряченное лицо"... "Гордая полячка с горячими губами"... "Аглая горячим животом толкала князя"... Поручик Катакази думает о встреченной бабе, с которой он потом, естественно, переспит - живые ж герои-то: "мягкие и, наверное, горячие губы"... Мальчик размышляет, заглянув за вырез платья девочки и увидев там нечто: "наверное, горячее"... Женщина думает о возлюбленном: "это горячее доброе тело"... Он думает о ней: "горячее молодое тело... женщина с горячим гибким телом... ее молодое горячее тело"... "она была горяча"... и т. д. И даже в описании царя Николая - "горячие губы".
В иных случаях автор не удовлетворяется этим, как говорится, наддает, градус подскакивает еще выше: "жар, исходящий от графини, ощущался на расстоянии"... "пламень, исходящий от баронессы, обжигал наши колени"... "это любвеобильное чудовище, в котором таятся жаркие угли"... "она была горяча, как неостывшая головня"...
Не ограничиваясь телом и отдельными его членами, т. е. внешним, романист и о внутреннем мире своих созданий, об их ощущениях, чувствах, страстях тоже живописует скупыми, но выразительными словами пожарного лексикона: "огонь свирепствовал внутри"... "безумный огонь тщеславия", "священный огонь созидания", "они писали, сгорая на медленном огне своих пристрастий"... "женщина, сгорающая от тоски"... "князь загорелся"... "наши окаменевшие сердца запылали"... Еще какой-то загадочный "жар неизбежности" и даже болезнь, которая "разгорелась ярким пламенем"...
Чтобы ни один персонаж, ни одна страница не страдали нехваткой жизни, энергии, динамичности, Б. Окуджава мановением руки вызывает еще и бури, они страшной силой бушуют на всем пространстве сочинения, - и в природе, и в душах героев, и в обществе. Ну вот хотя бы: "Ничто не предвещало бури, но"... "случилась буря"... "буря нарастает"... "за ленивыми жестами графини скрывались бури"... "никто не догадывался, что бушевало у нее в душе"... "они не могли без ужаса вспоминать об эротической буре"... "я бурно негодовал, бушевал"... "негодование еще бушевало в Мятлеве"... "сомнения опять бушевали в нем"... "Какие бури я преодолел?" - думает Мятлев... "в душе Мятлева бушевала буря"... "за окнами бушевала вьюга"... "май бушевал"... "под окнами бушевала толпа"... "бушевали бури в Петербурге"... Во всех сочинениях Пушкина, как о том свидетельствует словарь его языка, слово "бушевать" употреблено лишь пять раз. О девятнадцатый век, как ты далеко!
Заканчивая характеристику наиболее примечательных изобразительно-стилистических черт романа, нельзя пройти и мимо того, что в нем пропасть всякой чертовщины, нечисти, несусветицы: привидения, бесы, таинственные утопленники...
Зачем и откуда обилие персонажей такого разряда? Думаем, что оно объясняется прежде всего тон же, уже привлекавшей наше внимание простотой и удобством обращения с такими персонажами. А это современно, прогрессивно. Тут нет необходимости в дотошных портретах, нудных психологических мотивировках, хитроумных речевых характеристиках и т. п. Кто же не знает, к примеру, внешности черта? А привидения в романе речей не произносят, лишь воют. Как? "Тихо и монотонно" - вот и вся речевая характеристика.
В то же время эта инфернальщина как бы придает сочинению некую добавочную философическую значительность. Глядь, кто-то и поставит твою несусветицу в один ряд с тенями из пьес Шекспира, с Мефистофилем из "Фауста", с безымянным чертом из "Братьев Карамазовых" или хотя бы с оборотнями из "Мастера и Маргариты".
Однако, сказав, как нам думается, уже немало о художественной и отчасти нравственной атмосфере романа, мы все еще не поведали, о чем же он и кто его герои. Начать тут лучше всего с образа главного героя князя Мятлева, вокруг которого все и вертится.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: