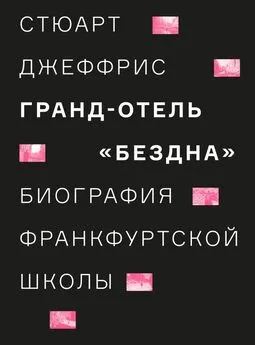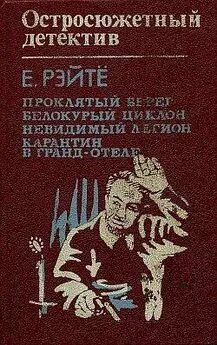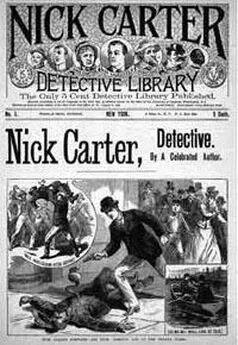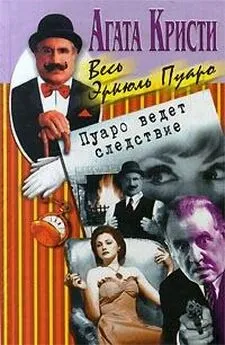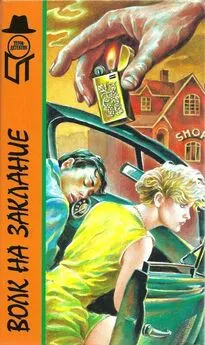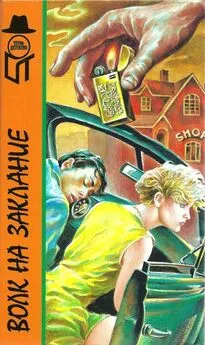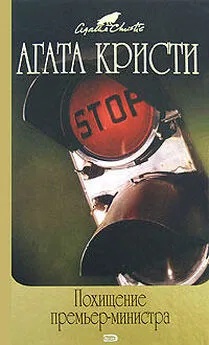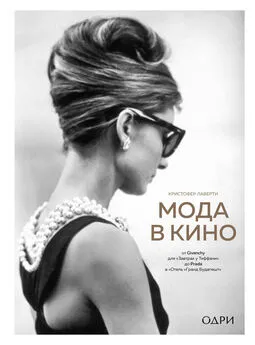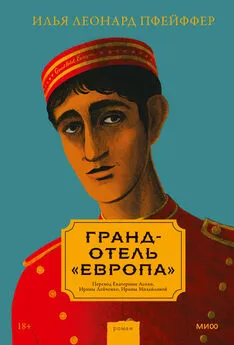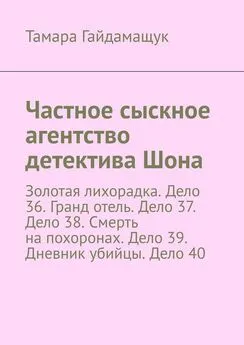Стюарт Джеффрис - Гранд-отель «Бездна». Биография Франкфуртской школы
- Название:Гранд-отель «Бездна». Биография Франкфуртской школы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ад маргинем
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91103-417-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Стюарт Джеффрис - Гранд-отель «Бездна». Биография Франкфуртской школы краткое содержание
Институт социальных исследований во Франкфурте, основанный между двумя мировыми войнами, во многом определил не только содержание современных социальных и гуманитарных наук, но и облик нынешних западных университетов, социальных движений и политических дискурсов. Такие понятия как «отчуждение», «одномерное общество» и «критическая теория» наряду с фамилиями Беньямина, Адорно и Маркузе уже давно являются достоянием не только истории идей, но и популярной культуры. Начиная свое повествование временем конных трамваев и дирижаблей и заканчивая эпохой Occupy Wall Street и социальных медиа, автор предлагает увлекательное и популярное введение в историю одного из самых значительных интеллектуальных явлений XX века.
Гранд-отель «Бездна». Биография Франкфуртской школы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Придерживаясь идеи о наличии у Просвещения «здравого ядра», Хабермас оказался несвоевремен: против него выступили не только студенты-радикалы конца 1960-х, но и мыслители-постмодернисты последующих десятилетий. Постмодернизм никогда не был по душе Хабермасу по двум причинам. Во-первых, он считал его способом заставить замолчать оппозиционные голоса. В этом смысле его критика постмодернизма была сродни критике американского марксиста Фредрика Джеймисона, для которого постмодернизм – это не столько теория, сколько системная модификация капитализма, противостоящая критической силе того, что Хабермас определяет как проект модерна {668} 668 См. Jameson F. Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism. Verso. 1991.
. Согласно Джеймисону, без такого проекта, без критической позиции мы беззащитны против глобального капитализма. Но если Джеймисон по-прежнему придерживается марксистской идеи о новом интернациональном пролетариате, поднимающемся против глобального капитала и постмодернистского декаданса, то Хабермас отошел от своего раннего марксизма. Во-вторых, Хабермас презирал постмодернизм, потому что тот, как и политика Руди Дучке (которую Хабермас окрестил левым фашизмом), заигрывал, по его мнению, с иррационализмом и нигилизмом, напоминавшими ему о временах нацизма.
Постмодернисты, со своей стороны, ответили Хабермасу тем же. Французский философ Жан-Франсуа Лиотар, автор «Состояния постмодерна», писал: «После пережитых нами чудовищных боен никто больше не может верить в прогресс, в консенсус, в трансцендентные ценности. Хабермас думает, что такая вера возможна» {669} 669 См. Stephens M. The Theologian of Talk.
. В этом смысле скорее Лиотар, а не Хабермас является наследником философии Адорно. Хотя, возможно, это и не так: ведь именно Хабермас, как никакой другой европейский интеллектуал, старался следовать новому категорическому императиву Адорно.
В 1980 году Хабермас произнес во Франкфурте пламенную речь, посвященную вручению ему премии Адорно – награды, присуждаемой за выдающиеся достижения в области философии, сценического искусства, музыки и кинематографа. Речь называлась «Модерн – незавершенный проект» {670} 670 D’Entreves M.P., Benhabib S. (eds) Habermas and the Unfinished Project of Modernity: Critical Essays on The Philosophical Discourse of Modernity. MIT Press. 1997. P. 38 и далее. Рус. пер.: Хабермас Ю. Модерн – незавершенный проект // Хабермас Ю. Политические работы / Сост. А.В. Денежкина; пер. с нем. Б.М. Скуратова. М.: Праксис, 2005. С. 7– 31.
. В ней он выступил в защиту своего понимания ценностей модерна от различных постмодернистов, в том числе Лиотара, Мишеля Фуко и Жака Деррида, а также против некоторых неоконсервативных мыслителей, возложивших на эти ценности вину за разложение западного общества. В «Философском дискурсе модерна» он пишет: «Модерн больше не может и не хочет формировать свои критерии по образцу какой-либо другой эпохи, он должен черпать свою нормативность из самого себя» {671} 671 Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. С. 12–13.
. Это не означало, что модерн антиисторичен; скорее, он был направлен (в формулировке Хабермаса из франкфуртской речи) против «ложной нормативности понимания истории, черпающегося из подражания образцам».
Вальтер Беньямин мечтал взорвать континуум истории; точно так же и модерн обладает трансформированным понятием о времени, освобождающим его от авторитета традиции. С развитием современной науки начиная с XVII века и далее, с появлением и развитием новых технологий измерения, проверки гипотез и математических теорий и по мере роста технически полезных знаний авторитет церкви слабел, а вместе с ним слабел и прежний аристотелианский подход к научному исследованию. Их авторитет был заменен авторитетом разума. В соответствии с тезисом Хабермаса, современность освободила людей от традиционных ролей и позволила им выбирать собственные цели и стать автономными. В этом смысле моральная философия Канта была ключевой: он настаивал, что «надо относиться к другому человеку не только как к средству, но всегда как к цели», и для него с моральной точки зрения самой выраженной чертой человеческой природы была наша способность свободно выбирать наши собственные цели. Это в точности та самая история Просвещения, которой противостоял Хоркхаймер в «Затмении разума», описывая, как тот впадает в иррационализм из-за чрезмерного внимания к инструментальным вопросам. Инструментальный разум, в понимании Хоркхаймера, был нужен как средство достижения целей и не обращался к их смыслу как таковому.
Поэтому тезис Хабермаса о модерне по сути дела опрокинул основной шибболет Франкфуртской школы. Утверждая, что разум скорее дал нам свободу, чем рабство, он пошел против своих учителей. Согласно Хабермасу, модерн среди прочего освободил нас от монотеистической иудеохристианской традиции и стал свидетелем рождения светской морали. Эта светская мораль также отделила человечество от субстанциальных представлений о благой жизни. Благо отличается от права или справедливости; и действительно, начиная с Просвещения возникает множество конкурирующих представлений о благе. Примечательно, что некоторые аспекты кантовской теории морали, изобретенные еще в эпоху Просвещения, практически одновременно спустя почти два столетия были подхвачены двумя ведущими философами – американцем и немцем. Словно оба философа занялись возвращением ее к жизни, пытаясь понять, как честными и справедливыми средствами спасти от разрушения западные общества, уже, кажется, приговоренные к распаду. Конечно, множественность представлений о благе невозможно упустить из виду, если вы, как Хабермас или американский философ Джон Ролз, сформировались после Второй мировой войны на Западе, становящемся все более мультикультурным и многоконфессиональным. Современные общества были сохранены от распада вовсе не всеохватывающими традициями; наоборот, они состояли из индивидов, считавших себя самостоятельными субъектами.
Что же тогда смогло бы удержать их вместе? Приоритет права над благом, – говорит Ролз в своей чрезвычайно влиятельной книге 1971 года «Теория справедливости». Ролз исходит из того, что притязания, основанные на правах индивидов, важнее и, следовательно, приоритетнее притязаний, основанных на благе и способных тем самым обернуться нарушением прав. Первейшей обязанностью либерального государства является защита базовых гражданских свобод индивида. Поэтому, по выражению Ролза, «потеря свободы одними» никогда не может «быть оправдана большими благами других». Для Ролза беспристрастность понятия права гарантирует социальную стабильность или гармонию.
С большей частью изложенного Хабермас был согласен: ясно, что современные общества невозможно, как это было ранее, сохранить от распада с помощью единого всеохватывающего представления о благе. Более того, незыблемые свободы и права необходимы, чтобы гарантировать процветание и автономию человека и обеспечить ту самую столь превозносимую Кантом Mündigkeit. Для Хабермаса все это необходимо, но недостаточно. Цель его философии, теории общества и политики в том, чтобы защитить нас от плохих последствий Просвещения. Именно это он имел в виду, утверждая, что современность – это незаконченный проект: мы извлекли пользу из того, что стали современными в смысле технического прогресса, экономического роста, рационального управления, обретения большей автономии, однако эта трансформация также оставила нам слишком много шрамов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: