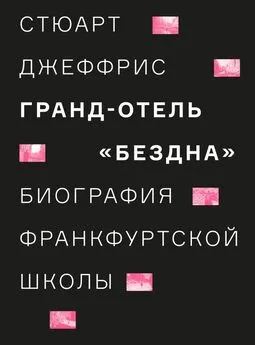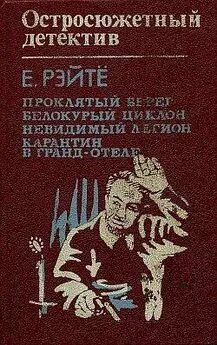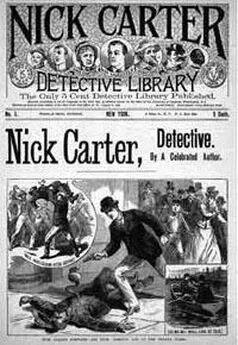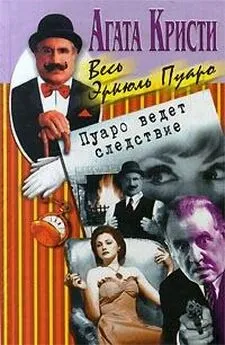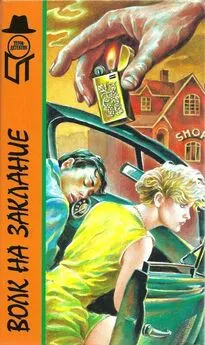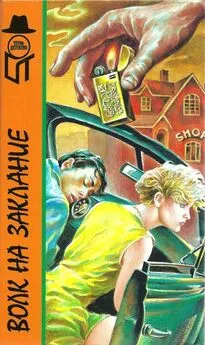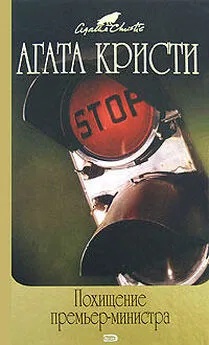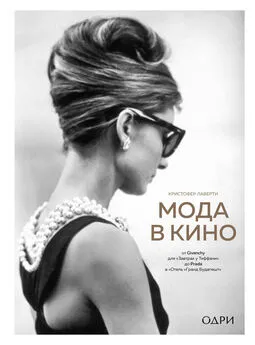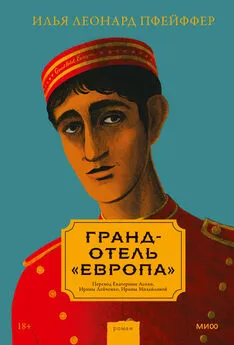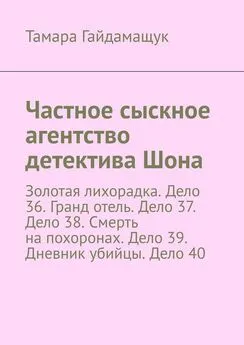Стюарт Джеффрис - Гранд-отель «Бездна». Биография Франкфуртской школы
- Название:Гранд-отель «Бездна». Биография Франкфуртской школы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ад маргинем
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91103-417-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Стюарт Джеффрис - Гранд-отель «Бездна». Биография Франкфуртской школы краткое содержание
Институт социальных исследований во Франкфурте, основанный между двумя мировыми войнами, во многом определил не только содержание современных социальных и гуманитарных наук, но и облик нынешних западных университетов, социальных движений и политических дискурсов. Такие понятия как «отчуждение», «одномерное общество» и «критическая теория» наряду с фамилиями Беньямина, Адорно и Маркузе уже давно являются достоянием не только истории идей, но и популярной культуры. Начиная свое повествование временем конных трамваев и дирижаблей и заканчивая эпохой Occupy Wall Street и социальных медиа, автор предлагает увлекательное и популярное введение в историю одного из самых значительных интеллектуальных явлений XX века.
Гранд-отель «Бездна». Биография Франкфуртской школы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Если почитать расшифровку их разговора, то невольно и безжалостно на ум приходит финал «Скотного двора» Оруэлла, когда «оставшиеся снаружи переводили взгляды от свиней к людям, от людей к свиньям, снова и снова всматривались они в лица тех и других, но уже было невозможно определить, кто есть кто». Наблюдая за ходом дебатов между Хабермасом и Ратцингером, иногда трудно сказать, кто из них кардинал, а кто – некогда защитник светского наследия Просвещения.
Хабермас зашел настолько далеко, что предположил наличие у религиозных понятий параллелей в секулярном разуме, благодаря которым Просвещение оказалось пропитано иудеохристианскими ценностями. Например, библейское представление о человеке, созданном по «образу и подобию Божьему», находит свое мирское выражение в принципе одинаковой ценности всех человеческих существ. Однако в этом переводе что-то теряется: «Когда грех был превращен в вину, а нарушение божественных заповедей стало преступлением против людских законов, что-то было утрачено». Создается впечатление, будто Хабермас думает, что в Просвещении осталась пустота, которую может заполнить только Бог, и что светское для своего процветания нуждается в том, от чего оно запрограммированно отреклось, то есть в религии. «Только те из современных обществ, – писал он, – что будут способны включить в светскую сферу основное содержание своих религиозных традиций, указывающих за пределы всего лишь человеческого, смогут спасти саму сущность человека» {691} 691 Цит. в Habermas J. An Awareness of What is Missing. P. 5.
.
Но что это все могло означать? В 2007 году в Мюнхене Хабермас принял участие в диалоге с четырьмя учеными-иезуитами, и спустя некоторое время содержание этой беседы было опубликовано под заголовком «Осознание отсутствующего». Там он вспомнил о похоронах своего друга, который при жизни «не признавал никаких вероисповеданий» и тем не менее перед смертью попросил заказать поминальную службу в церкви Святого Петра в Цюрихе. Хабермас предположил, что его друг «почувствовал несуразность нерелигиозных похоронных практик и собственным выбором места публично объявил, что просвещенному веку модерна не удалось подыскать подходящей замены религиозному обряду, сопровождающему последний rite de passage [27] Обряд перехода ( франц .).
». Эта история не слишком убедительна: многие атеисты и агностики оплакивали своих любимых на похоронах, проходивших не в священных местах, не чувствуя при этом никакой несуразности или неудачи, упомянутых Хабермасом в рассказе об уходе из жизни своего друга. Но все же он счел эту историю «парадоксальным событием, которое может кое-что нам поведать о светском разуме» {692} 692 Ibid. P. 15.
.
Смысл того, что Хабермас хотел сообщить нам по поводу секулярного разума, превозносимого им на протяжении большей части своей карьеры, а на самом деле о современном светском государстве, заключается в том, что им обоим не хватает того, что религия предлагает верующим – не только спасения, но и добродетельной жизни. Светский разум страдает от «мотивационной слабости» и потому не может сподвигнуть граждан на добродетельные поступки. Нет, он не собирался выбросить секулярный разум на свалку. Он хотел держаться за «когнитивные достижения современности»: толерантность, равенство, свободу мысли, космополитизм и научные достижения. Он также хотел противостоять различным формам фундаментализма, «отсекающего себя» по своей собственной воле от всего хорошего, что есть в проекте Просвещения. Но он предлагал и нечто большее, что Стэнли Фиш охарактеризовал следующим образом: «Это не то чтобы слияние; это скорее похоже на соглашение торговых партнеров: …религиозная сторона должна принять авторитет “естественного” разума в форме несовершенных результатов институциализированных наук и базовых принципов универсалистского эгалитаризма в праве и морали. Светский разум, в свою очередь, не может выступать судьей в истинах веры, даже в том случае, если в конце концов он может принять как обоснованное только то, что способен перевести в свои собственные, в принципе универсально доступные рассуждения» {693} 693 См. Fish S. Does Reason Know What it is Missing? // New York Times. 12 April 2010 на opinionator.blogs.nytimes.com.
. То есть в этом случае Хабермас выступает за толерантное отношение к вере сродни тому, что однажды описал американский журналист Г.Л. Менкен: «Мы должны уважать религию ближнего, но только таким же образом и настолько же, насколько мы уважаем его мнение о том, что его жена – красавица, а его дети – вундеркинды» {694} 694 Докинз Р. Бог как иллюзия. М.: Колибри, 2008.
. Такую толерантность вполне можно считать одним из достижений Просвещения, и она стоит того, чтобы ее сохранить.
Таким образом, утверждает Хабермас, секулярный разум, великий продукт Просвещения, «не просвещен о себе самом» и не понимает своего предназначения. То есть в центре своей интеллектуальной паутины он наткнулся на то, что критические теоретики виртуозно раскрывали в теориях других мыслителей, а именно на апорию (слово из греческого языка, буквально означающее «прохода нет», часто используемое для описания трудноразрешимой ситуации). Двое из его интерпретаторов попытались точно определить апорийную природу того, что Хабермас называет секулярным разумом. Если современный Запад хочет, чтобы его не считали просто «безбожным», пишет Эдвард Скидельски, «если он должен внушать не только страх, но также и уважение, то ему необходимо вернуть себе свою этическую субстанцию». А это, по его мнению, требует примирения Запада с собственным религиозным наследием {695} 695 Skidelsky E. Habermas vs the Pope.
. Как считает Стэнли Фиш, «проблема состоит в том, что политическая структура, приветствующая все мировоззрения на рынке идей, но при этом отгораживающаяся от всех из них без исключения, не имеет оснований для вынесения суждений о последствиях, возникающих в результате ее действий» {696} 696 Fish S. Does Reason Know What it is Missing?
.
Конечно, сложные интеллектуальные системы Хабермаса – теория этики дискурса и программа политической теории – явно были придуманы для того, чтобы мировоззрения, по мысли Фиша радушно принимаемые на рынке идей, процветали в той мере, в какой они не опрокидывают нравственный порядок либерального общества. Хабермас различает этику и мораль: первая касается вопросов индивидуального счастья и блага сообществ, вторая – принятия решений о том, какие действия правильны, а какие нет в соответствии с действующими нормами. Нравственный порядок зависит от желания большинства агентов следовать этим нормам, и они будут делать это только тогда, когда эти нормы ясно демонстрируют интерес, поддающийся универсализации.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: