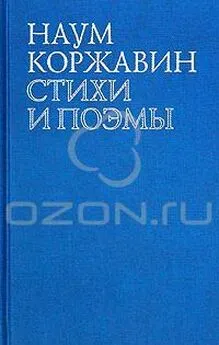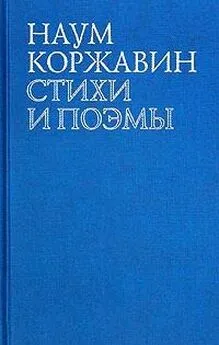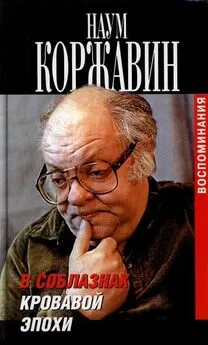Наум Коржавин - В соблазнах кровавой эпохи
- Название:В соблазнах кровавой эпохи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:0101
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наум Коржавин - В соблазнах кровавой эпохи краткое содержание
В соблазнах кровавой эпохи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Так или иначе, но личностью какой-никакой я все-таки стал на самом деле. Я и мемуары стал писать с целью лучше объяснить себе и другим, как это было и что это значит. Поэтому мне и приходится уделить столько внимания среде, из которой я происхожу, хотя читателю, возможно, это и не так интересно. Но без рассказа о ней рассказ о моем становлении как личности был бы непонятен и недостоверен. Ибо хотя эта среда и не влияла на мое творчество, но в детстве она как-то участвовала в моем формировании. А как известно, все начинается с детства.
ДОМ И ГОРОД
Итак, я родился через восемь лет после «Великого Октября», через пять лет (а если считать и Дальний Восток, то через три года) после окончания гражданской войны и всего за четыре года до еще более судьбоносного «великого перелома». Причем родился в Киеве, через который кровавые цунами гражданской войны перекатывались многажды и всяко, а уж во что там обошелся, что там напереломал «великий перелом» — общеизвестно и все же непредставимо. Киев был едва ли не эпицентром этого отнюдь не стихийного бедствия, не менее бессмысленного, но более жестокого и разрушительного, чем любое стихийное. И если гражданская война происходила до моего рождения и была долго окутана для меня дымкой романтики (о том, как появляются такие дымки и как они окутывают страшные события, надо размышлять особо), то «перелом» проходил отчасти на моих глазах. Конечно, я мало что понимал в свои шесть-семь лет, но то, что я видел, не могло каким-то боком не застрять в моей памяти, каким-то образом не отразиться на моем духовном облике, как на духовном облике всех, кто тогда жил и пережил это. Каким именно — я понял только недавно.
Но все-таки детство было детством. Обе сестры моей матери — уже упоминавшиеся Хая-Ита и Шифра — были бездетны, дочери их брата Иосифа (одна недоразвитая) были уже взрослыми и в их попечении не нуждались. Поэтому вся их любовь, все неизрасходованное материнство были направлены на меня. Говорили: у Эмы три мамы. Часто это было мне даже в тягость, но ребенком я был вполне обихоженным, как и положено ребенку.
Кстати, об имени — великий московский острослов композитор Никита Богословский сказал однажды, что любые два слога, где второй оканчивается на «а», могут в России составить неполное еврейское имя. Вероятно, он не далек от истины. Это относится и к русским дворянским и традиционно интеллигентским семьям, но все же не в такой степени. В еврейских семьях это переходило все границы сообразности.
Помню, как одна очень добрая родственница сетовала на то, что нашей дочери не дали имени ее погибшего во время сталинских чисток деда.
— Но она ведь девочка,— удивились мы,— а его звали Григорий, Гриша. Как же ее надо было назвать в честь него? Ведь нет такого имени...
Но для доброй женщины не было тут никаких трудностей.
— Как нет? — в свою очередь удивилась она. — А Грина?!
То, что такого имени нет в природе, ее просто не занимало.
Думаю, что приблизительно так прилепилось ко мне и имя Эма.
Вообще-то при рождении мне дали имя моего кенигсбергского деда — Нехемье. Но поскольку даже в обиходе того круга, где я родился, оно не звучало естественно, оно постепенно так «приспособилось к реальности». То, что оно при этом оказалось женским, никого не беспокоило. Так и живу. Спасаюсь тем, что, подписывая письма друзьям — больше употреблять его негде,— пишу его через одно «м». Только дети иногда все же интересуются, почему я дядя, а не тетя. Но в быту, так уж получилось, мне привычней и естественней откликаться на это имя. Неудобств оно мне не доставляет. Более того, везде, где мое положение естественно, меня называют Эма, а везде, где я как бы не в своем облике (эвакуация, ссылка, горный техникум), меня называли Наум. Из чего отнюдь не следует, что отношения с людьми в этих местах у меня обязательно были более далекие и отчужденные. Где бы я ни был, у меня оставались друзья, которых я до сих пор люблю.
Но Наум я на самом деле. В русском переводе имя Нехемье значит Наум. Это не приспособление имени, а его перевод: пророк Нехемье — пророк Наум. Впрочем, и в приспособлении имени я никакой особой подлости не вижу. Слишком ломались уклады в наше время. Как бы ни презирали меня за это всякого рода разоблачители, а с именем Нехемье, даже если б оно не имело перевода, я бы никогда себя отождествить не смог. В Израиле все эти имена уместны и звучат красиво, но в русской жизни они громоздки и неудобны. Впрочем, мои родители, которых в каком-либо отказе от еврейства обвинить трудно, в эвакуации звались Анна Наумовна (вместо Ханна Нехемьевна, как ее называли в Киеве) и Моисей Григорьевич (вместо Гецелевич). Просто потому, что на Украине тогда еврейские имена были не в диковинку, а на Урале были труднопроизносимы.
Но я забежал вперед, а мемуары в принципе следует начинать с начала, с раннего детства. Но о нем мне рассказывать почти нечего. Лев Толстой помнил даже, как его пеленали, но я этого не помню. Помню только, как меня баюкали, завернув в одеяло. И каким оно большим тогда было, это красное детское ватное одеяльце! Помню, что короткое время в самом начале у меня была няня и что звали ее Пашей.
Присутствие Паши я осознал раньше, чем присутствие матери. Помню, как однажды мы сидели с Пашей на крыльце нашего дома, и вдруг подошла какая-то женщина, вроде бы знакомая и симпатичная, и стала что-то требовательно внушать няне, почему я настроился по отношению к ней даже несколько неодобрительно. Потом оказалось, что я живу с этой женщиной в одной комнате и что она — моя мама. Видимо, наше самосознание пробуждается в нас толчками, а не плавно. О Паше помню еще, что была она русская, а не украинка. Это было до начала массового бегства украинских крестьян из вымирающих деревень в города, и Киев был еще городом по преимуществу русским.
Впрочем, ее я встречал и позже, когда она от нас ушла, даже и после войны,— она жила где-то по соседству. Она, может, и сейчас еще жива, но только не «по соседству», ибо «соседства» этого уже нет: все домики вокруг и наш тоже снесли.
Но на дворе еще год двадцать седьмой, может быть, двадцать восьмой, и мы сидим с Пашей в солнечный день на крыльце нашего дома. Крыльцо, собственно, не совсем крыльцо — просто широкие цементированные ступени, где по вечерам жильцы, как во всяком южном городе, расставляют стулья и «дышат воздухом», устраивают нечто вроде импровизированного клуба. Но это воспоминания более поздних лет. А пока мы сидим с няней на крыльце, и что здесь бывает вечером, я не знаю. По вечерам я еще сплю.
Это крыльцо для меня выход в мир и вход в мой дом. Мимо нас с няней иногда проходят люди, соседи и родные, в дом и из дома. Каждый скажет мне хоть слово, некоторые и по щечке потреплют. Людям я рад, но куда они уходят, я не знаю и не интересуюсь. Я еще не знаю, куда можно уходить, но знаю, что можно, это данность. Данность и дом, на крыльце которого я сижу. Со стороны улицы он выложен кирпичом какого-то зеленовато-желтого, уютного, и вправду «домашнего», цвета. Или, наоборот, цвет этот воспринимается мной как домашний, потому что он связался с домом? Теперь этого уже не разобрать. На первом этаже (точней, в бельэтаже) справа от нас (мы ведь сидим спиной к дому) — пять больших широких окон. Первые два — теткиной спальни, следующие три — нашей комнаты. Над ними — второй этаж — ряд таких же окон. Только вместо одного из них — выход на балкон. Слева от нас то же, что и справа, только эта часть дома продолжена подворотней (по-киевски — «подъездом»), над которой на уровне полуторного этажа еще одно окно — квартиры, предназначавшейся для дворника. Под каждым из окон бельэтажа есть еще одно небольшое окошко. Если стоять не рядом, можно видеть только его верхнюю часть, нижняя как бы уходит в землю. На самом деле вокруг каждого из них мощеная квадратная выемка. Это окошки подвала. Когда мы кончим «гулять», то есть сидеть на крыльце, и войдем в парадное, мы увидим вход в этот подвал — несколько ступенек, ведущих вниз, и широкую желтую — под цвет парадного — дверь, обычно запертую на висячий замок. Но в подвал мы не идем. Да меня туда и не тянет — там темно и оттуда несет сыростью. Там никто не живет, и никто еще не знает, что там можно жить. Тянет меня домой, там светло, там у меня есть игрушки, кроватка, родное красное одеяло. Мы держимся правей и одолеваем почти такое же небольшое количество ступенек, что и в подвал, но только вверх, а не вниз, и оказываемся на своей площадке.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: