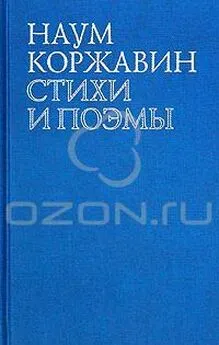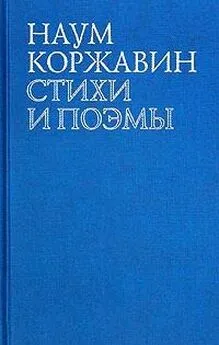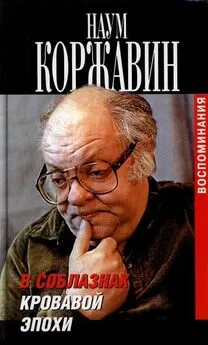Наум Коржавин - В соблазнах кровавой эпохи
- Название:В соблазнах кровавой эпохи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:0101
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наум Коржавин - В соблазнах кровавой эпохи краткое содержание
В соблазнах кровавой эпохи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Последний день моей свободы, 20 декабря, мало чем отличался от остальных. Помню, что днем мы с моим приятелем Юрием Уваровым, тогда студентом-филологом МГУ, и его приятелем (о котором он потом говорил, что это был Андрей Синявский, но тот это отрицал, и у меня нет ощущения, что я был с ним знаком до эмиграции) забрели в какую-то забегаловку на Тверской, рядом с бывшим "Националем" (ее теперь нет). Через некоторое время туда забрел (тоже в компании с кем-то) мой товарищ по институту поэт и скульптор Виктор Гончаров.
В этот раз он был почему-то очень грустен и повел странные речи:
- С человеком все можно сделать. Вот, например, возьми волка. Или другого зверя. Если его запереть в клетку, он будет на стены бросаться, ходить целыми днями из угла в угол, искать выхода. Не успокоится. А человек!.. Загони в любой грязный сырой подвал, в сарай, в яму, где темно, скользко, воняет, - что он будет делать? Он как только осмотрится и придет в себя, подойдет к кому-нибудь, начнет расспрашивать, как тут что, когда жрать дают, - начнет обживаться...
В его словах чувствовалось не осуждение этого человека, а болезненное сочувствие его безвыходному положению. Подозреваю, что он что-то слышал о тучах надо мной (ведь достаточно для нашего маленького заведения людей знало про это - кто-то мог поделиться и с Витей) и слова эти - реакция, усиленная встречей. Но не исключено, что трагическое самоощущение, проявившееся в его словах, было связано с другими, более давними, переживаниями - все-таки он был с многострадальной Кубани.
Вечером (потом я узнал, что это был еще и День чекиста) я вместе с упоминавшимся уже Максимом Толмачевым читал стихи в каком-то клубе.
Вернулись домой. Помню, когда я уже ложился, явился откуда-то Расул Гамзатов сильно подшофе и завалился спать (наши койки были рядом). Я тоже заснул. И очень скоро, как мне показалось, был разбужен. Надо мной стоял "лазоревый" (выражение А.К. Толстого) подполковник и требовал документы. После того как я предъявил паспорт, он сунул мне в глаза какую-то бумагу: "ОРДЕР" - запрыгали у меня перед глазами буквы. Я вгляделся внимательней - несмотря ни на что, не в силах поверить в реальность происходящего. Но это действительно был ордер на мой арест, подписанный каким-то зам. министра ГБ и, кажется, заместителем генпрокурора СССР. А может, и самим генеральным - мне было не до подробностей.
Начиная описывать сцену своего ареста, я не собираюсь вступать в какое бы то ни было соревнование с другими, часто очень талантливыми писателями, в том числе с Тендряковым, описавшими это событие задолго до меня. И описавшими его, в общем, верно. Некоторые из них увидели эту сцену раньше, чем я, - я был не первый, кого разбудил лазоревый подполковник. Как мне потом рассказали, для того чтоб найти меня, будили всех подряд и спрашивали документы, даже другое, недавно заселенное, помещение разбудили. Но я буду строго придерживаться мемуарного жанра - говорить лишь о том, что видел, слышал, чувствовал и запомнил лично. Как всегда, не отказываясь и от сегодняшнего осмысления, но отделяя его от тогдашнего.
Могу обрадовать современных умников. Я и тут, спросонок, не сразу до конца мог понять, что происходит, - уж слишком невероятно это было. Мне предложили одеться, и тут же прозвучал идиотский вопрос:
- Оружие есть?
Реагируя не столько на ситуацию, которую все еще не успел осознать, сколько на буквальный идиотизм вопроса, я буркнул:
- Пулемет под кроватью.
И тут же услышал в ответ резкое:
- Не острите. Отвечайте на вопрос.
Лазоревый как будто даже несколько обиделся. Ведь он и сам понимал, что вопрос нелеп: какое оружие может быть в общежитии, где рядом, друг у друга на глазах, живет десять человек, в основном фронтовиков, знающих в этом толк. Да и вообще зачем задавать его человеку, привлекаемому по делу, весьма далекому от всякого оружия. Но по инструкции он обязан был его задать и требовал уважения к своей роли.
Так что моя реплика не была ни сознательной дерзостью, ни потугой на героизм. Мне было не до героизма. Не потому, что я был трусом и даже не из-за состояния потрясенности, в котором находился, а потому, что какой же героизм против своих? А "свои" демонстрировали высокий класс отчужденности. И этот идиотский вопрос был первым наглядным ее проявлением - со мной разговаривали так, словно я уже был не я, а некто абстрактный, изначально находящийся по ту сторону баррикад. Чьим-то решением я стал чужим. В том числе и самому себе. Я не рисуюсь - тяжесть реальных перспектив меня угнетала страшно: я был убежден, что лагеря мне не пережить. Но тяжесть отчуждения превосходила тяжесть реальных обстоятельств и перспектив...
Именно поэтому поведение мое (как и внутреннее состояние) было глупым и жалким. Я все пытался объяснить арестовывавшим, кто я такой и как это несправедливо. А они ведь вообще не знали и не обязаны были знать (скорее обязаны были не знать), в чем дело, зачем они меня арестовывают. Только однажды (и, по-моему, когда мы уже были на улице) лазоревый "резонно" (и интеллектуально) заметил:
- Может, вы и не виноваты, но ведь есть еще и репрессии. - Он не был злодеем, он был франтом (насколько позволяла униформа) и бонвиваном, этот подполковник, обязанность которого состояла в том, чтобы рыскать по ночам по городу и вносить в дома несчастье. И очень его успокаивало это иностранное слово.
Кроме него орудовали в комнате еще два его товарища. Один в офицерской форме, и один какой-то весь ночной, бледный, молчаливый, смесь канцеляриста с бандитом. Описывая подобного типа в "Тишине", Ю.Бондарев употребил выражение "закашлялся, совсем как человек". Этот ведал бумагами и книгами. Судя по всему, подполковник его еле терпел - как историческую необходимость.
Конечно, все общежитие проснулось. Впрочем, кроме Расула, по пьяни проспавшего всю "историческую" сцену. Остальные, лежа и полулежа в своих постелях, молча наблюдали за происходящим. У двери стоял понятой - наш дворник Василий Тарасович, многажды описанный многими не имевшими отношения к делу мемуаристами в качестве Андрея Платонова, худощавый, стройный, с красивой, уже седоватой бородой. Андреем Платоновым он не был, но был хорошим, добрым, порядочным православным человеком. Могу поручиться, что в тот момент в его душе никакой сумятицы, подобно моей, не было - он просто и недвусмысленно сочувствовал мне, ставшему жертвой душегубства. Я разговаривал с ним и после возвращения из ссылки. Теперь его уже наверняка нет в живых. На таких людях, Царствие ему Небесное, и держалась Россия...
Понятой была еще комендантша нашего общежития, имя-отчество которой я забыл, тоже простая добрая женщина. В отношениях с ней у меня были некоторые мелкие сложности. Дело в том, что Мишка Ларин, покидая институт навсегда, пропил мое ("казенное") одеяло. В бытовом смысле это обошлось - у меня было еще ватное одеяло из дому, которым я и укрывался. Но комендантша считала пропитое Мишкой одеяло числящимся за мной. Это было не совсем справедливо, ведь не я его пропил, но если бы одеяло это числилось за ней, это не было бы справедливей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: