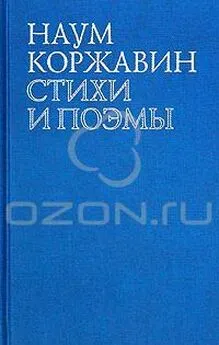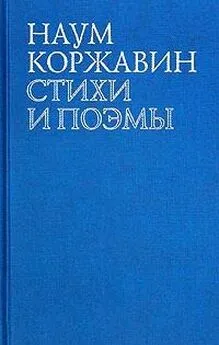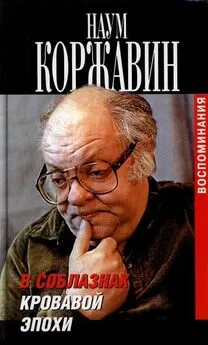Наум Коржавин - В соблазнах кровавой эпохи
- Название:В соблазнах кровавой эпохи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:0101
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наум Коржавин - В соблазнах кровавой эпохи краткое содержание
В соблазнах кровавой эпохи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
За эти годы я навсегда ушел из жизни двора. Участие мое в жизни семьи тоже теперь сводилось к минимуму. Все мое время и внимание, кроме школы, занимали стихи, книги и разговоры с товарищами. Товарищами по школе и по литкружку. В сущности, это было одно целое, оно расширялось и перемешивалось. Я жил теперь в городе, где у меня появлялось все больше и больше знакомых и друзей, с которыми разговаривал о том, что волновало. Становился шире круг моих мыслей. Во-первых, потому, что я становился взрослей, во-вторых, к моим прежним размышлениям прибавились размышления о поэзии. Разумеется, мои тогдашние «мнения», как общественные, так и эстетические, были еще очень далеки от моего сегодняшнего понимания, но они у меня уже были. Даже о поэзии.
Впрочем, хотя кружок произвел на меня колоссальное впечатление, поначалу я по-прежнему не надеялся, что стану поэтом. Но стихи начал писать с каким-то невероятным упорством — в школе и дома. Пробовал себя и в других жанрах, писал еще рассказы и пьесы — из революционной жизни, конечно. Впрочем, и о шпионах тоже — как было в тринадцать лет обойти эту увлекательную и насущную тему! Написанное тащил в кружок, где оно неизменно обругивалось. Но это меня не останавливало — к следующему занятию кружка я снова что-нибудь приносил, и все повторялось. Но кое-что и менялось. Ведь обругивали меня с самых «высокопрофессиональных» позиций, какие только и могут быть у неофитов. Каждый, кто впервые хотя бы на отдалении сталкивался с литературными кругами или кружками, немедленно становится неофитом профессионализма, начинает горделиво понимать, «как это сделано». Это может быть и на пользу, если человеку есть что сказать и если он долго на этом не задерживается. Или безвредно — если человек в юности побалуется, а потом бросит. Это ведь литературная грамота. Процесс овладения ею в чем-то сходен с процессом овладения просто грамотой. Сначала ребенок не умеет писать вообще, потом, научившись, пишет везде, где удается, и только в конце концов — там, где надо. С той только разницей, что до этого последнего этапа литературной грамотности добираются немногие. Жалко тех, для кого «как сделано?» останется высшей, и последней, мудростью или лучшим воспоминанием, кто за этим так и не вспоминает о более элементарных вопросах — «что?» и «зачем?».
Но если на этапе литературной грамотности особенно не задерживаться, он необходим. Мне тогда, во всяком случае, он пошел на пользу. Рассуждения литкружковцев не могли быть особенно квалифицированны, то, что говорила Адочка (так мы называли между собой нашу руководительницу Ариадну Григорьевну), было вполне квалифицированно, но я поначалу ее мыслей до конца — по, малограмотности — еще не понимал. Однако все вместе это открыло мне одно — что тут есть о чем думать. И этого оказалось достаточно. Развиваться я стал с того времени очень быстро. Если раньше я не понимал, что поэма одного из моих друзей представляет собой подражание «Думе про Опанаса» Эдуарда Багрицкого (до этого я слышал однажды по радио «Смерть пионерки», но не задумался над тем, кто ее автор), то теперь я любил Багрицкого и оперировал его именем вполне свободно. Очень высоко котировался в моих глазах Асеев. Как друг Маяковского и как поэт антимещанского пафоса. Импонировала сама его формула приятия революции: «Да здравствует революция, / Прогнавшая власть стариков!» Впрочем, в те времена эти стихи Асеева, хотя сам он тогда был не только в славе, но и в чести, уже не печатались. Была такая категория произведений двадцатых годов — они не преследовались, но по возможности не печатались, а когда печатались (совсем их не печатать было нельзя — некоторые из них считались советской классикой), то искаженными, приглаженными, нафиксатуаренными. В них не было никакой политической взрывчатости, но они просто не соответствовали эмоциональной атмосфере наступившей эпохи, напоминали отмененные времена, которые поэтому тем, кто их не знал, начинали казаться романтическими и чистыми. Отсюда и тяга к революционной, «попутнической» литературе двадцатых годов, к ее «настоящим» текстам.
В магазине, который уже здесь упоминался, я набрел не только на Асеева (небольшой сборник избранных стихотворений «Наша сила»), но и на неизвестною мне тогда Александра Прокофьева. В шестидесятых годах среди ленинградской (нелитературной, правда) интеллигенции о Прокофьеве как о поэте судили по его поведению в должности главы ленинградской писательской организации, поведению, что говорить, очень непривлекательному, и поэтому считали чуть ли не бездарью, а он если уж чем точно не был, так это бездарью. Даже тогда, в момент наибольшего своего падения, когда он («секретарским» образом) печатал целые подборки невыразительных стихов, в них — пусть одно на десять — попадались стихи подлинные, первозданные. А когда я впервые прочел его предвоенный сборник, я просто был ошеломлен и поражен яркостью ею стихов. Признаюсь сразу — Прокофьев никогда не относился к числу моих любимых поэтов. Его внутренний мир не требовал самоуглубленного лиризма, необходимого мне для полной самоидентификации с автором. Но он мне всегда нравился, всегда поражал и радовал каким-то лихим упоением самим процессом жизни, яркостью восприятия. Особенна при первом чтении. К такому я не привык и такого не ждал. Это противоречило всем моим представлениям о поэзии. Но это было поэзией, в этом была сила поэзии. Я ее чувствовал, хоть не знал, почему это так.
Читал я и многих других поэтов. Старых тоже. Лермонтова, естественно (болезнь возраста, хоть у некоторых этот возраст навсегда), предпочитал Пушкину. Пушкина, следуя Маяковскому, «сбрасывал с парохода современности». Это мне давалось тем легче, что я искренне верил, что в отличие от Лермонтова, у которого глубокие чувства, у Пушкина одна только гладкопись. Но потом это прошло — Пушкин все равно как-то исподволь проникал в меня и проник.
Читал я и Ярослава Смелякова. Его «Любка» потрясала меня, как и многих, своим хотя и комсомольским по сюжету, но все же неприкрытым лиризмом. Из-за чего она и считалась упадочнической, особенно в годы первой пятилетки, энтузиастом которой Смеляков оставался до последних дней. Тем не менее на ее исходе он был арестован — еще не НКВД, а славными органами ОГПУ (другими словами, до вакханалии тридцать седьмого — может, поэтому он и не был объявлен «врагом народа») — за какую-то реальную или приписанную выходку (точно, в чем было дело, не знаю) и в описываемое время заканчивал свой первый лагерный срок. Пока он сидел, сменились эпохи, посадили тех, кто его сажал (конечно, не за то, что они это сделали), а он все сидел. Но по окончании срока он вернулся в Москву. Это было уже перед войной, перед новым кругом его мытарств, через год или два после моего знакомства с его стихами.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: