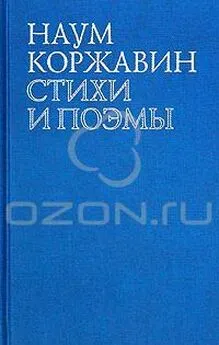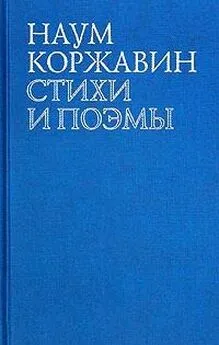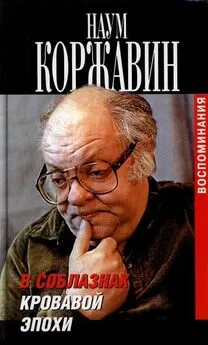Наум Коржавин - В соблазнах кровавой эпохи
- Название:В соблазнах кровавой эпохи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:0101
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наум Коржавин - В соблазнах кровавой эпохи краткое содержание
В соблазнах кровавой эпохи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но тогда, в сентябре 1940-го, я только встретился с этими ребятами, и все мои дружбы только завязывались. А время продолжало меняться. Неожиданно грянул указ — обучение в вузах и старших классах стало платным. То жутко гордились великим завоеванием — тем, что оно бесплатное, то вжик — и нет. В принципе и это нестрашно. На свете много стран, где обучение не бесплатное, и ничего — живут. На свете ведь бесплатного ничего нет. Например, госквартиры у нас почти бесплатные, но их и ремонтировать не на что. Правда, и к небесплатности образования в нормальных странах приспосабливаются — способный человек, желающий учиться, учится. Но наше общество не было нормальным, и плата стала взыматься не ради самой платы, а опять-таки из социального планирования — чтоб «перекачать» часть молодежи из студентов в рабочие. Вполне возможно, не всем у нас тогда и полное среднее было необходимо, многие «тянули лямку» только потому, что такой установился стандарт — не в последнюю очередь благодаря пропаганде. Но сделано это было отвратительно. Когда я предложил собрать деньги для тех наших товарищей, которые сами за себя заплатить не могли, мне намекнули, что это надо делать тихо. Вне зависимости от тoro, как дети учились, они подлежали «перекачке» из-за материального положения их родителей — после того как были пролиты моря крови за социальное равенство. И если не в сознании, то уж точно в подсознании от этого оседало ощущение бессмыслицы.
Так что и в этой школе меня не оставляла в покое торжествующая сталинщина. А тут и у Гриши началась история. Началась она, собственно, раньше — с его речи на совещании юнкоров, куда нас умолила прийти Адочка. Дело в том, что редактор «Юного пионера» Шмушкевич, личность примитивная и брутальная, после того как наш журнал, удостоившись одобрения работника «Пионерской правды», тем не менее не получил премии, углядел в этом недоброе и стал в чем-то подозревать нас и руководительницу. Появление наше на этом совещании в присутствии самого министра просвещения товарища Бухало должно было засвидетельствовать нашу лояльность. Засвидетельствовало оно прямо противоположное. Что-то не то говорил там и я, но в основном Гриша. Опять против формалистики, в том числе и в комсомоле.
И это аукнулось — дошло до школы. Здесь Грише чаще сочувствовали. Особенно члены комитета комсомола Сеня Богомолец и Марк Розенблат, оба из десятого (еврейского) класса. (Сеня потом погиб на фронте, Марк прошел войну, стал журналистом и до сих пор живет в Киеве.) Но делу был придан надлежащий размах — давили райком и обком. И члены комитета конфиденциально сообщили Грише, что сочувствуют ему, но будут голосовать за его исключение — видимо, в порядке комсомольской дисциплины.
Каким-то образом к этому делу имела отношение и Федотова, смягчала что могла — по доброте, а не из согласия. Но Гришу из комсомола исключили.
Не знаю, затруднило ли бы ему это поступление в вуз (как ни странно, тогда еще это учитывалось не так строго, как потом), но в те «университеты», куда очень в скором времени предстояло попасть всем нам, принимали без выписок из «личного дела комсомольца». Меня чаша сия миновала, поскольку на закрытые собрания несоюзная молодежь не допускалась. Да и ребята не хотели моего участия — ведь я уже был «меченый» и мог только ослабить их позиции. Возможно, это меня уберегло от новых неприятностей. Так что все к лучшему...
В это же время Головач выгнал из школы и Люсика. Между тем мы все продолжали жить в «самой счастливой и свободной стране, озаренной солнцем сталинской конституции».
История не останавливается, не делает перерыва для того, чтобы какое-либо поколение смогло «оклематься» — собрать по крупицам свой трагический опыт и спокойно осмыслить его. Все это относится и к моим воспоминанйям. Сейчас, когда я пишу эти строки, кончается январь 1991 года, и события не оставляют меня в покое. И если война против иракской тирании волнует меня только сама по себе (переживаю за судьбы летчиков и вообще за успехи Америки), не колебля моих представлений о мире и жизни, то события в Прибалтике и Москзе все же испытывают их добротность. Процесс, внутри которого мы жили и мыслили всю свою жизнь, приведя к чудовищным последствиям, еще не кончился, продолжает страшными конвульсиями трясти и без того давно уже усталую, измученную, истощенную болезнью страну; возможен летальный исход. Какое значение на этом фоне имеет, что понимали и чего не понимали интеллигентные юноши, читавшие друг другу стихи на улицах довоенного Киева?
Они что-то чувствовали, эти мальчики, но почти ничего не понимали. Прежде всего в человеческой жизни, в жизни уже упоминавшихся «молочниц и мамаш», в том, как она тяжело дается, и в том, что скрывается за ее приземленностью. Грех Сталина перед революцией некоторыми из нас сознавался, некоторыми отрицался или оправдывался, но проблема ощущалась всеми. Грех Сталина и самой революции перед страной не замечался вовсе. И только поэзия иногда выводила из этого тупика.
И все-таки все эти блуждания впотьмах имеют значение, хотя бы потому, что в конце концов — конечно, не скоро — привели к пониманию сути поэзии, а следовательно, и жизни. Конечно, не к разгадке ее «секрета», но к пониманию, что этот секрет есть. К более острому пониманию важности признания секрета и нелепости его игнорирования. А это вещи, нужные и сегодня, если наша страна и жизнь вообще будут продолжаться.
А тогда, в 1940 году, была юность, мне шел шестнадцатый год, и никто не знал, что полных шестнадцать мне стукнет уже не в Киеве, совсем в другом месте, при других жизненных обстоятельствах и другом жизненном опыте — в эвакуации.
В Европе война уже шла, но мы еще не воевали, хотя были уверены, что чаша сия не минует и нас. Но это была пора нашей юности. Она, несмотря ни на что, была одновременно и тревожной и безоблачной, мы пили эту безоблачность большими глотками, может быть, инстинктивно чувствуя ограниченность ее сроков. Но что война будет такой, какой она потом была, мы и представить себе тогда не могли. Эвакуироваться из своих домов, по нашим представлениям, предстояло немцам — если, конечно, успеют.
К этому времени меня уже больше всего на свете занимала поэзия. Все остальное — в связи с ней. И что-то существенное я стал в ней понимать. Каким образом — сказать трудно. Прежде всего, как уже говорилось, через Маяковского, стоящего в ней особняком. Потом через близкую мне тогда по духу революционно-романтическую поэзию двадцатых годов (поначалу всегда понятней ближайшие предшественники), явление хотя иногда и яркое, но межеумочное. Правда, начал я понимать и любить Блока, его лучшие стихи. Мое сегодняшнее отрицание некоторых тенденций его творчества, неоднократно мной высказанное, не изменило моего отношения к этим стихам. В большинстве из них он и теперь остается для меня великим русским поэтом. Открылся мне и Пастернак. Об Ахматовой и Мандельштаме я только слышал. Имя Цветаевой я впервые услышал лишь весной 1941 года, перед самой войной. И все же сквозь всю эту и иную путаницу в голове (о чем достаточно здесь говорилось) я уже что-то нащупывал. Рождалось ощущение формы как выраженной цельности внутреннего замысла (у многих до сих пор заслоненное «работой над формой», или «овладением формой»), а также представление об обобщенности, о том, что этот замысел не должен исчерпываться поводом, вызвавшим его к жизни, все равно, интимным или общественным переживанием он является. Формулы эти, конечно, не тогдашние, но ощущение в какой-то мере и тогдашнее.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: