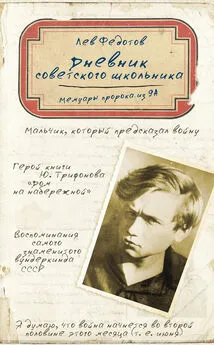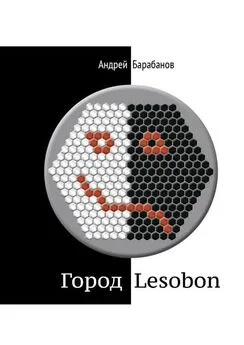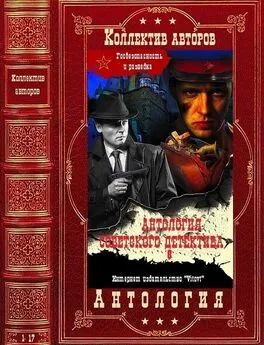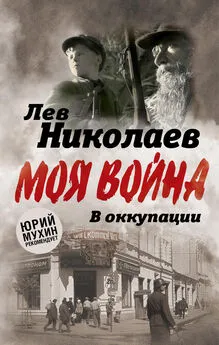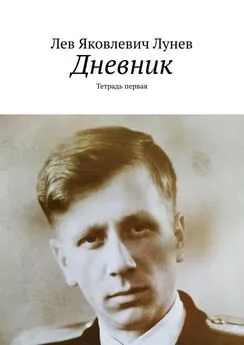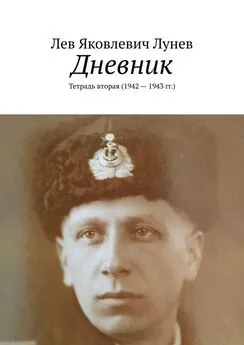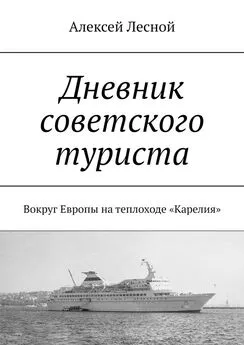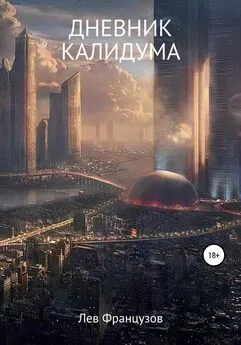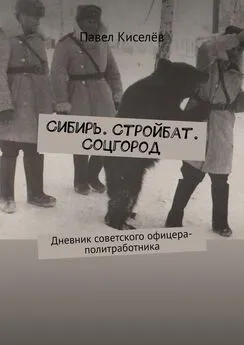Лев Федотов - Дневник советского школьника. Мемуары пророка из 9А
- Название:Дневник советского школьника. Мемуары пророка из 9А
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «АСТ»
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-089848-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Федотов - Дневник советского школьника. Мемуары пророка из 9А краткое содержание
Этот удивительный мальчик жил в знаменитом доме на Набережной в 40-х годах XX века. Он поражал воображение сверстников. Он потрясающе рисовал и интересовался всем на свете – минералогией, палеонтологией, океанографией и историей, писал симфоническую музыку и романы в толстых тетрадях. Мальчики смотрели на него как на чудо, а девочки побаивались и нежно звали «Федотик». В остальном это был самый обыкновенный мальчик, московский школьник, который бегал по дворам с друзьями, дрался, спорил и иногда даже убегал с уроков. О своей жизни он очень живо и с юмором поведал в дневнике. Будущее сулили ему удивительное, он мог стать гениальным музыкантом, ученым или писателем… Наступал 41-й год…
Дневник советского школьника. Мемуары пророка из 9А - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Нужно признаться: эта идея не подлежит верификации даже на сегодняшний день, хотя с довоенных времен науки о земле проделали гигантский прогресс, а проблема иммортализма вышла на уровень научного признания и транснационального движения!
Конечно, Лев Федотов находился в начале своего поиска. На этом этапе были преждевременными любые многообещающие заявления, что, собственно, и удерживало его от связного изложения своей идеи – ей следовало предпослать доказательную базу, дать концептуальное оформление. А вес слова, устного или письменного, в его универсуме был выше того значения, которым оно наделялось в обывательском обиходе. Он и сам заявлял об этом, хотя вроде бы и по поводу, никак не связанному с высокими материями. Так, имея уже гарантию получения билета в Ленинград в канун 1941 г., на расспросы знакомых о своем отъезде он предпочитал отвечать неопределенно:
Вообще… у меня такой существует закон: ни в коем случае никогда не говори заранее. Вот и сейчас! Меня даже, если и спрашивают, еду ли я в Ленинград, я никогда не говорю «еду», а отвечаю: «вероятно» или «может быть». Я буду уверен в поездке лишь тогда, когда билет будет у меня в руке.
Так что же остается в сухом остатке от этой потенциально плодотворной и прерванной на восходящей стадии деятельности? Только смутные предположения о том, что истина для ищущих бессмертия сокрыта в недрах планеты, а ее полости со временем могут стать средой обитания землян, поменявших свой энергетический и психофизиологический режим существования. Только дерзкая мечта о воскрешении предков и наступлении золотого века на планете после разгрома фашизма и победы СССР над Великобританией и США в результате нового столкновения, хотя и не такого кровавого и ожесточенного, как с нацистской Германией. Еще остается его самоподготовка для будущего осуществления проекта. Как будто совсем немного для того, чтобы феномен Льва Федотова делать объектом серьезного внимания.
В общем-то при желании и переосмысленную им концепцию Федорова можно представить как соединение двух утопий – биокосмической и коммунистической – и на основании этой квадратной степени дезавуировать как предмет анализа. К такому логическому выводу подталкивают и оценочные суждения, возведенные в постсоветский период в ранг бесспорных истин. Так, по авторитетному мнению известного американского русиста и советолога Р. Стайтса, темы предельных возможностей, которыми были одержимы революционные романтики 1920-х, – бессмертия и освоения космоса – являлись коррелятом состояния невежества и варварства, в котором столетиями пребывала вся Россия, за вычетом ее тонкого образованного слоя. Особенно противоестественной выглядела погоня за этими миражами для страны, у которой физический потенциал был подорван революцией и Гражданской войной, а деревянная соха и гужевой транспорт составляли примету повседневной жизни. Впрочем, по мнению Стайтса, культ науки и машинной техники не был специфически российским явлением, а отражал общую тенденцию отсталых обществ, находящихся в процессе революционной трансформации. Что же касается увлечения идеями бессмертия, то оно концентрировало в себе некую блуждающую ментальность, основанную на хилиастических чаяниях народа и прометеевской вере в способность изменить природу и ее законы [21]. С этой трактовкой коллективного сознания эпохи красных кумачей, пожалуй, можно было бы согласиться, если бы не одно «но»: деградация отечественной фундаментальной науки и развал космической отрасли, сопровождающие весь постсоветский период развенчания «коммунистической утопии», перечеркивают нигилистический подтекст подобных характеристик.
Да и сама коммунистическая идея, шагнувшая из области теории в практику социального переустройства, в глазах современников являла собой куда более сложный продукт, чем ее худосочные проекции в курсах по марксизму-ленинизму и пропагандистских лозунгах. Не случайно в ряде фундаментальных трудов постсоветского времени акцентируется мистериальный смысл, притянувший к ней самые неожиданные движения – от староверчества и народного религиозно-мистического сектантства до «богоискателей» Серебряного века и интеллектуалов, группировавшихся вокруг литературного сборника «Скифы». По определению А. Дугина, русский национал-большевизм, сложившийся на базе этой идеи и взявший на себя ее воплощение, был модернистским инвариантом мессианских чаяний русского народа, его стремлений к созданию тысячелетнего царства, основанного на принципах справедливости, правды и равенства. Подобно Традиции, тянувшейся к преодолению границ как помехи полного бытия, национал-большевизм изначально был направлен на преодоление географических и онтологических барьеров [22].
Эти интенции, как известно, получили свое преломление, с одной стороны, в теории и практике мировой революции. А с другой… в устремленности к покорению космоса, наряду с подготовкой человеческого организма и психики к вселенской экспансии. При этом, предваряя внеземную колонизацию и клонирование в ее ходе своего жизнеустройства, в смысловом горизонте революции ветхий человек должен был уступить место творцу и созидателю, не отягощенному пороками старого мира. Эта идея, поставленная во главу угла культурной революции большевиков, имела глубокие корни. В ее истоках отчетливо различим религиозно-мистический зов, взыскующий возвышения человека до соработника Божьего в незавершенном деле творения мира. Зародившись в исканиях духовных «столпов» образованного российского общества рубежа XIX–XX вв., сектантском народно-утопическом творчестве и эзотерических практиках, эта ударная волна российского религиозно-философского ренессанса прошла через революцию и на выходе была оседлана большевиками. И хотя первые глашатаи этой парадигмы духовного роста навряд ли согласились бы признать в тех своих наследников, именно они приступили к ее претворению в жизнь. Так, идеократическим режимом, по сути, был запущен гигантский плавильный тигль, в котором наработки Серебряного века, соединяясь с идейными максимами коммунистических теоретиков, синтезировались в новые этические регламенты и заново создаваемую священную историю. На фоне начатой тотальной переделки старого мира рождение человека новой формации уже не казалась несбыточным упованием.
Его черты с большей или меньшей отчетливостью выразились во всем поколении рожденных под знаком революции. В духовно-культурном коде этой генерации соединились революционный романтизм, примат духовных ценностей над материальным благополучием, вера в неисчерпаемые силы и возможности строящегося общества, пассионарность. Неотъемлемую часть этого мироощущения и связанной с ним преобразовательной деятельности составлял феномен космизма. По определению современного исследователя, его квинтэссенцией является «переживание человеком целостности мира, своего единства с космическим целым» [23]. Присутствуя в одних персоналиях более зримо, в других – стерто, это мироощущение, тем не менее, принесло поразительные плоды. Так, уже в 1920-е в России появилось Общество изучения межпланетных сообщений, включавшее в себя около 200 членов. Поддерживая связь с К. Э. Циолковским и Ф. А. Цандером, после проведения в 1926 г. московской выставки по исследованию мировых пространств, оно самораспустилось по причине… невозможности практических занятий [24]. Тем не менее на протяжении всего третьего десятилетия ХХ в. биокосмизм с его лозунгами интерпланеризма и иммортализма оставался одним из самых интригующих и захватывающих направлений научной мысли, в особенности для молодого поколения. Новый всплеск общественного интереса к этим проблемам породило торжественное празднование 75-летия К. Циолковского в 1932 г. в масштабах всего СССР. Несмотря на редкость обращений к этой теме в пространстве СМИ последующих лет, идея продолжала волновать умы. Постоянную подпитку в техносфере ей давали прогрессирующее отечественное авиастроение и рекордные авиаперелеты второй половины 1930-х, массовое увлечение авиамоделированием и парашютным спортом. В художественном творчестве – запечатленные на холсте космические мотивы и образы живописцев из объединения «Амаравелла», литературные прозрения А. Толстого, А. Беляева, Л. Леонова, В. Итина, В. Обручева.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: