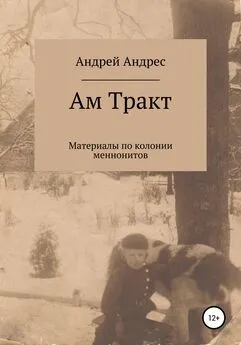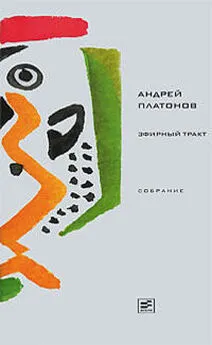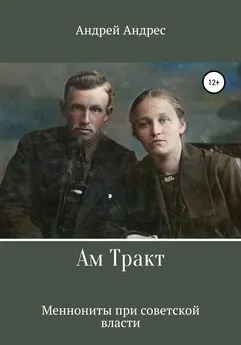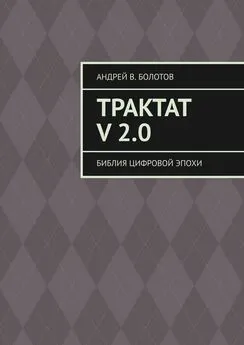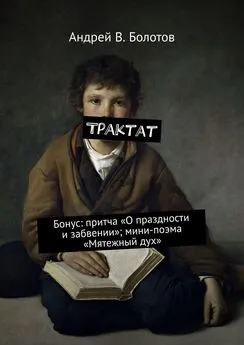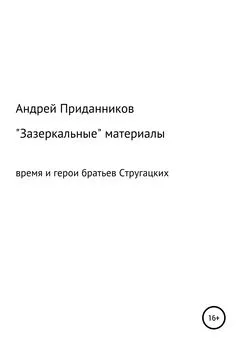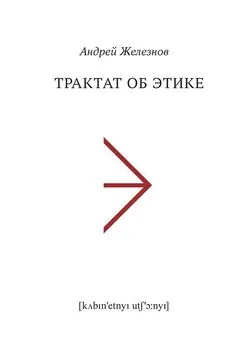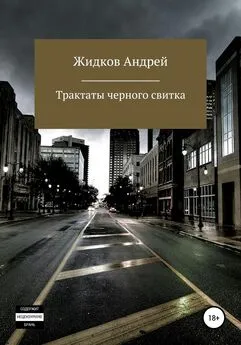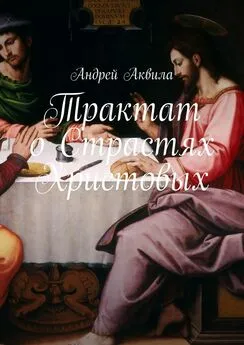Андрей Андрес - Ам Тракт. Материалы по колонии меннонитов
- Название:Ам Тракт. Материалы по колонии меннонитов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2022
- ISBN:978-5-532-96880-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Андрес - Ам Тракт. Материалы по колонии меннонитов краткое содержание
Ам Тракт – это одна из последних колоний, основанная меннонитами из Западной Пруссии в степном российском Заволжье. В сборник вошли документы и материалы, опубликованные разными дореволюционными авторами в период с 1852 по 1921 гг. Уголовное дело 1921 года является новой вехой в жизни поселенцев, ознаменовавшей переход от прежней жизни "у царя за пазухой" к новой постреволюционной реальности.
Сборник будет интересен потомкам российских меннонитов и всем, кто интересуется историей религиозного движения Меннонитов и Государства Российского.
Ам Тракт. Материалы по колонии меннонитов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Не поверите, как бойко пошли машины, – говорит мой спутник-агроном, имеющий какое-то отношение не то к земству, не то к заведыванию казёнными землями Новоузенского уезда. – Пять лет только, как уездное земство открыло первый склад, – а теперь один Петров – вот посмотрите, какой склад вывел; продаёт в год на полмиллиона, да земство на двести тысяч, да другие торговцы… не меньше чем на миллион в год раскупается по уезду.
Извозчик завозит нас к знакомцу – полуинтеллигентному местному обывателю, к которому должны привести нам лошадей. Хозяин уходит к ямщику, хозяйка хлопочет около самовара.
– Бойкое у вас место, – говорю я ей.
– Не говорите… И народ же здесь живёт! Поначалу я днём на улицу не выходила, боялась; только теперь попривыкла. На Пасхе сколько народу с пьяных глаз перерезали! Около пристаней ютятся, да около лесопилок; летом, опять же, косцы находят, – не дай Бог!..
– А много народу на полевые работы приходит? – спрашиваю я подошедшего между тем хозяина.
– Сейчас третья часть против прежнего. Кому прежде триста человек требовалось, теперь сотней обходится, – всё машины пошли.
– А сотню всё-таки нужно? Куда столько при машинах?
– Да как же – пшеницу возить, жать тоже при машинах, на косилках работать. Ведь он всю работу норовит разом кончить… а потом ещё и то: жнёт он машиной, а на углах переменные люди стоят – снопы сбрасывать: один круг сделает, на его место другой на машину становится, – одному не под силу.
– А откуда рабочие?
– Нонешний год, кажись, все больше пензенские.
– И на амбарах они же работают?
– Нет, на амбарах работа круглый год, зимой ещё тяжелее против лета: зимой подвозят пшеницу – с возов в амбары ссыпают, а летом – из амбаров на баржи грузят. Ну, сюда уж со всей округи собираются, лето и зиму работают; все, у кого ни кола ни двора, – кто только водку пьёт. Нельзя без водки-то на этой работе, больно тяжело; видали амбары? извольте девятипудовый куль на третий этаж тащить… Вот я в Астрахани бывал, там все больше персюки на этой работе стоят; здоровый народ, да и безответный; всякий его бьёт, всякий норовит обчесть, а ему куда деваться? Языка не знает, паспорта у него нет, он и до начальства дойти не может. Очень уж только жить здесь дорого, – внезапно переменил разговор мой собеседник: вот я – какое моё жалованьишко, а дом себе построил; нанимать квартиру не по средствам.
– А рабочий народ как же помещается?
– Да по землянкам ютятся. Которые на лесопилках работают, тем каждый день полагается по два горбыля на отопление; они из них и складывают себе хибарки; на зиму привалят земли да снега – вот и тепло.
– А лесопилок здесь много?
– Много; на весь Новоузенский уезд лес поставляют.
Однако подали лошадей, едем.
Гладкая, чернозёмная, совершенно безлесная степь, изредка изрезанная неглубокими балками. Сначала обширный, дочиста выбитый Покровский выгон, потом – море ещё зелёной, едва начинающей белеть усатой пшеницы, среди которого, кое-где, ярко желтеют небольшие пятнышки ржи.
– Выгон покровские распахали, – говорит ямщик: разбили на участки да посдавали с торгов; по 40 да по 50-ти рублей брали за два хлеба, а земле вся цена сто рублей, да и то только в эти года такая цена стала. Раньше десятину свободно за 50 рублей можно было купить.
Едем несколько вёрст этим сплошным морем пшеницы; делянки обширные, посевы чистые, без сора, хлеб густой, высокий; арендаторы, видно, состоятельные, крепкие хозяева – да иначе и быть не может: слабому откуда взять пятьдесят рублей за десятину, да, главное, чем её вспахать?..
Пересекаем линию хуторов, расположившихся вдоль границы бывшего выгона. Поодаль – вторая такая же линия, кое-где – отдельные, разбросанные хутора. Одни из них – жалкие землянки, едва возвышающиеся над уровнем земли; при них ни хлева, ни амбара; другие – саманные или глинобитные избы с кой-какими навесами для скота, третьи – бревенчатые дома, с обширными хлевами и амбарами; около некоторых – пруды, при них – небольшие группы деревьев, радующие глаз в этой уныло-безлесной степи.
Между первою и второю линией хуторов – душевые пашни покровских слобожан. Вместо однообразного моря пшеницы – пёстрая смена то крупных квадратов и прямоугольников, то более мелких полос; пшеница-белотурка, главное богатство и гордость Новоузенского края, чередуется то с мягкою пшеницей – «русаком» или полтавкой, то с овсом, ячменём, картофелем, подсолнухом; чистые от сора, сильные и рослые посевы богатых мужиков теряются среди массы полос, густо заросших сорною травой, с редким, низкорослым хлебом, сильно прихваченным засухой. Нигде ни залежи, ни пара. Здесь – царство пестрополья, высасывающего из земли всё, что земля может дать, и доводящего её если не до полного истощения, – о настоящем истощении здесь ещё далеко думать! – то, во всяком случае, до такого состояния, когда она перестаёт кормить страдающего и страдующего над нею пахаря.
– Вы посмотрите, во что они обратили землю! – восклицает мой товарищ по экскурсии, которого агрономическое сердце не может вынести вида такого, действительно не агрономического, хозяйства.
Скоро, однако, картина вновь меняется, и мы опять въезжаем в море пшеницы. Обширные поля, где по нескольку десятков, где и по нескольку сотен десятин под одну межу, засеянные сплошь то белотуркою, то «русаком», чередуются с ещё гораздо более обширными сплошными залежами, то поросшими высоким бурьяном, то усеянными небольшими копешками сероватого бурьянистого сена, то лишёнными всякой растительности, кроме сероватой, мелкой, сильно пахучей полыни. Поодаль от дороги то одиночные хутора, то группы хуторов, с двухэтажными хлебными амбарами и ветряными мельницами, с обширными хлевами для скота, с конными приводами, чтобы вытаскивать воду из глубоких колодцев. Пустынность степи нарушается то парою работающих жнеек или сенокосилок, то длинными процессиями плугов – четыре, шесть, десять плугов подряд, борозда в борозду, вздирают уже отдохнувшую залежь. Где пашут или жнут – там, где-нибудь в сторонке, стоят какие-то домики на колесах; это перевозные балаганы, где рабочие укрываются от дождя, складывают одежду и провизию, и где имеется запас необходимых инструментов для починки жнеек и плугов.
Это, оказывается, мы въехали в район оброчных статей – казённых земель, сдаваемых в аренду. В других местах, где население гуще и где уже резко ощущается «утеснение», казна сдаёт оброчные статьи, по преимуществу, более или менее малоземельным крестьянским обществам. В Новоузенском уезде малоземелья ещё нет, и казённые земли, которых здесь более полумиллиона десятин, сдаются главным образом крупным посевщикам, снимающим, некоторые, по много тысяч десятин. На статьях обязательное по контрактам залежное хозяйство: засевается два или три поля, а шесть или семь полей отдыхают, служа лишь сенокосом или выгоном скоту.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: