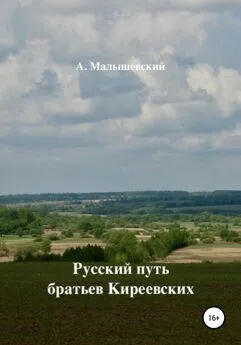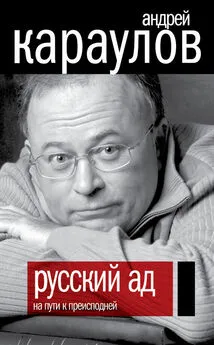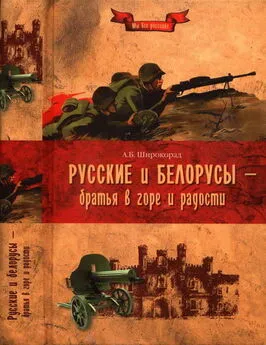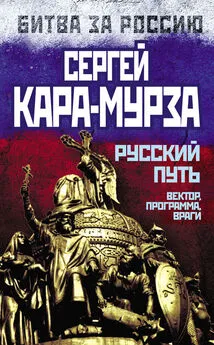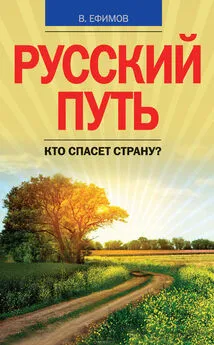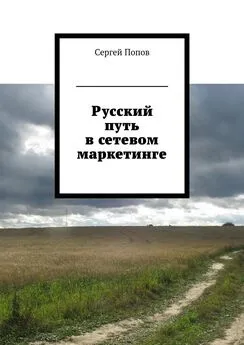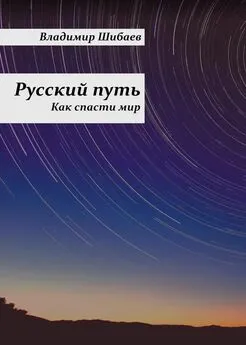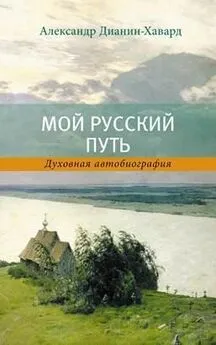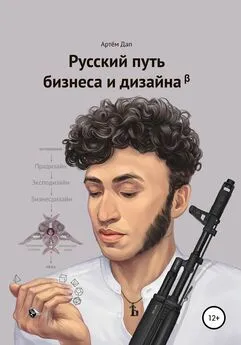А. Малышевский - Русский путь братьев Киреевских
- Название:Русский путь братьев Киреевских
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
А. Малышевский - Русский путь братьев Киреевских краткое содержание
Русский путь братьев Киреевских - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Я смотрел на небо другими глазами; это было милое, утешительное, Машино небо. Ее могила для нас будет местом молитвы. Горе об ней там, где мы, но на этом месте одна только мысль о ее чистой, ангельской жизни, о том, что она была для нас живая, и о том, что она ныне есть для нас небесная. Последние дни ее были веселы и счастливы. Но не пережить родин своих было ей назначено, и ничто не должно было ее спасти. Положение младенца было таково, что она не могла родить счастливо; но она не страдала, и муки родин не сильные и не продолжительные. В субботу 17 марта она почувствовала приближение родительной минуты: поутру были легкие муки, к обеду все успокоилось – она провела все после обеда с Сашею, была весела необыкновенно; к вечеру сделались муки чаще, но и прежде, и после их была потеря крови, и в ней-то причина смерти. Ребенок родился мертвый – мальчик. В минуту родин она потеряла память – пришла через несколько времени в себя, но силы истощились, и через полчаса все кончилось! Они все сидели подле нее: смотрели на ангельское, спящее, помолодевшее лицо, и никто не смел четыре часа признаться, что она скончалась. Боже мой! А меня не было! В эти минуты была вся жизнь, а я должен был ее не иметь! Я должен был не видеть ее лица, ясного, милого, веселого, уверяющего в бессмертии, ободряющего на всю жизнь. Саша говорит, что она не могла на нее наглядеться.
Она казалась точно такою, какова была в 17 лет. В голубом платье, подле нее младенец, миловидный, точно заснувший. Горе было для всех, здесь все ее потеряли. Знакомый и незнакомый прислал цветы, чтобы украсить стол, на котором лежали наши два ангела, и живший, и неживший! Она казалась спящею на цветах. Все проводили ее, не было никого, кто бы об ней не вздохнул. Ангел мой, Дуняша, подумайте, что обо всем этом пишу к Вам я, и поберегите свою жизнь. Друг милый, примем вместе Машину смерть, как уверение Божие, что жизнь – святыня. Уверяю вас, что это теперь для меня понятно – мысль о товариществе с существом небесным не есть теперь для меня одно действие воображения, нет! Это <���неразб.> я как будто вижу глазами этого товарища и уверен, что мысль эта будет час от часу живее, яснее и одобрительнее! Самое прошедшее сделалось более моим; промежуток последних лет как будто бы не существует, а прежнее яснее, ближе. Время ничего не сделает… Разве только одно: наш милый товарищ будет час от часу ощутительнее своим присутствием, я в этом уверен. Мысль об ней полная ободрения до будущего, полная благодарности за прошедшее, словом – религия! Саша, вы и я, будем жить друг для друга во имя Маши, которая говорит нам: “Незрима я, но в мире мы одном”.
Я не сказал почти ничего о Саше: Бог дал ей сил, и ее здоровье не потерпело. Можно сказать, что у нее на руках ее спаситель: она кормит своего малютку [436]. Пока он пьет ее молоко, до тех нор чувство горя сливается с сладостию материнского чувства. Она плачет, но он тут: милый, живой, веселый и спокойный ребенок.
Маменьке [437]помогают слезы, не бойтесь за нее. Другой спаситель – Машина дочь [438], наше общее наследство. Она не имеет никакого понятия ни о чем – весела, бегает, смеется, но слезы, которые она видела, ей как будто сказали тайну: точно так же она привязалась (и вдруг, без всякой поспешности) к Саше, как к Маше. О матери не говорит ни слова, но ласкается с необыкновенною нежностью к Саше, по получасу лежит у нее на руках, целует ее и что-то есть грустное в этих поцелуях. Милая, Машина дочь теперь и Ваша. И для нее Вам должно беречь себя. Матери не увидит она, но от кого, как не от нас, дойдет до нее предание об этом ангеле» [439].
В 1829 году не стало А. А. Воейковой, Александры Андреевны Протасовой, а в 1844 году ее дочери, одной из любимых племянниц Авдотьи Петровны, Екатерины Александровны Воейковой; позднее, в том же году, 27 декабря, умер 21 года от роду Андрей Алексеевич Елагин; в декабре следующего, 1845-го, года скончался племянник Н. М. Языкова Д. А. Валуев, ставший не по родству, но по близости членом семьи Елагиных-Киреевских; в 1846 году, 21 марта, Авдотья Петровна вторично овдовела, лишившись А. А. Елагина; год спустя – новые утраты: 12 февраля 1848 года скончалась Екатерина Афанасьевна Протасова, а вслед за нею (4 июля) дочь Авдотьи Петровны, Елизавета Алексеевна Елагина. В 1852 году умер, не успев возвратиться на родину, В. А. Жуковский. 1856 год стал еще одним черным годом для А. П. Елагиной, унесшим двух ее первенцев: вначале 11 июня умирает Иван Васильевич Киреевский, а вслед за ним 25 октября Петр Васильевич Киреевский; через два года не стало И. Ф. Мойера, а три года спустя (5 сентября 1859 года) скончалась дочь Авдотьи Петровны, Марья Васильевна Киреевская. 11 февраля 1876 года скоропостижно скончался Николай Алексеевич Елагин; за три года до этого он был избран предводителем дворянства Белёвского уезда и окружил Авдотью Петровну всевозможными удобствами, построив в Уткине, поблизости от ее родного Петрищева, прекрасный дом, разбив обширный сад, заведя превосходную библиотеку и достойную картинную галерею.
А. П. Елагина-Киреевская в последние годы своей жизни сравнивала себя с Рахилью, плачущися чад своих и не хотяше утешитися, яко не суть [440]. И все же, сохраняя живой, ясный и веселый ум, усердно занималась чтением, переводами, живописью, рукоделием и обожаемыми ею цветами. Родным и близким она дарила то нарисованный акварелью цветок, то связанный кошелек, а то вдруг, по поводу какого-нибудь разговора, отправлялась в свою комнату и выносила оттуда сделанный ею перевод того или иного места из прочитанной книги. Незадолго до кончины Авдотьи Петровны Общество любителей словесности при Московском университете предложило ей почетное членство, и Елагина-Киреевская, несмотря на свой почтенный возраст, с благодарностью приняла предложение и сочла своим долгом побывать на заседании Общества.
Земная лампада жизни одной из просвещеннейших женщин первой половины XIX века тихо, почти без страданий погасла 1 июня 1877 года в Дерпте, в семействе своего последнего сына Василия Андреевича Елагина. Накануне Авдотья Петровна сделала все приготовления к поездке к себе в Уткино, где она собиралась провести лето, но силы внезапно изменили ей…
2
После переезда в Москву Иван и Петр Киреевские начинают, как это было принято в то время, брать частные уроки, главным образом у преподавателей Московского университета. Авдотья Петровна в обучении сыновей отдавала предпочтение молодой профессуре: Н. И. Крылову (римское право), Д. Л. Крюкову (римская словесность), П. Г. Редкину (энциклопедия законоведения), А. И. Чивилеву (политическая экономия и статистика), С. И. Баршеву (уголовные и политические законы). Все они слушали лекции в университетах Германии, в основном Берлинском, и, приступив с 1835 года к преподаванию в Московском университете, пропагандировали философию Гегеля.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: