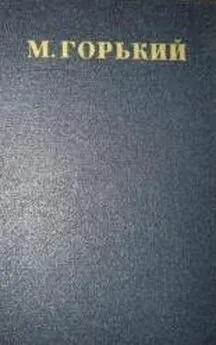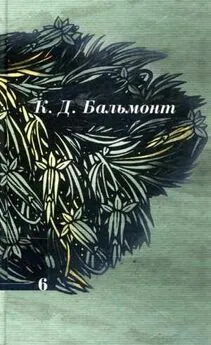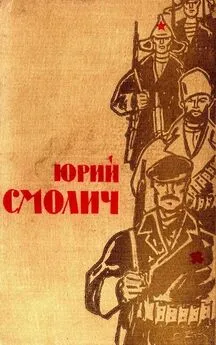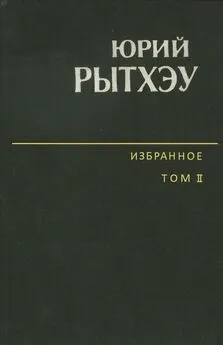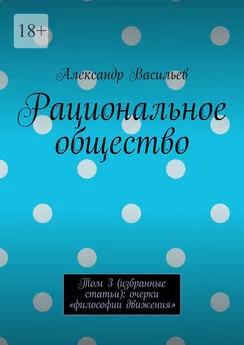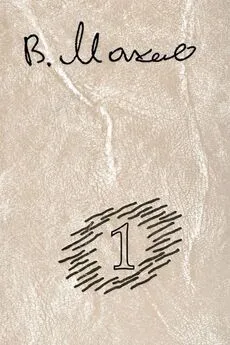Василий Макеев - Избранное. Том 2. Художественные очерки и заметки
- Название:Избранное. Том 2. Художественные очерки и заметки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:5-9233-0613-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Макеев - Избранное. Том 2. Художественные очерки и заметки краткое содержание
Избранное. Том 2. Художественные очерки и заметки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А тут под ногами художникова собачонка крутится, Мечтой звали. Худая, голодная, забытая, словом, пропащая. Ну, свежевать я с детства умею, и пожалел ее в сараюшке…
Когда мои приятели заявились, то еще на веранде руками плескать начали: «Мясом пахнет!» Как, мол, и откуда? Да у Федина, говорю, позаимствовал, сами знаете, какие у него кролы богатые водются. Они меня качать на радостях!
Ну, выпили мы, закусили как следует и разбрелись спать от сытости по углам. К вечеру художник проснулся, глядит – вокруг мослы мясные валяются.
«Собаку покормить, что ли?» – задумался он, собрал мослы и стал звать, губы вытянув трубочкой:
– Мечта, Мечта! Где ты?
А я ему из своего угла отвечаю:
– Ты свою Мечту в руках держишь!
Даже из этой то ли смешной, то ли жестокой фантазии явственно видно, что из Александра Максаева мог бы выработаться оригинальный прозаик, к чему неоднократно призывали его мы с Иваном Даниловым. Он послушно написал пару-тройку рассказов, но небесного подъема от них так и не испытал.
Ушел из жизни в октябре 1991 года синеглазым удалым поэтом, когда вовсю по скверам и переулкам мел и хороводил цыганский листопад…
Не от этой ли желтой грусти
Скорбь лазоревого цветка
И очей голубые устья
Глубже чистого родника?
2000
«Летел голубь через сад зеленый…»
Мы любили с ним на посиделках в кругу закадычных друзей потанакивать эту немудреную жалостливую песенку, от которой обливались горючими слезами наши прабабушки казачьего рода-племени:
Летел голубь через сад зеленый,
Сел калинушку клевать.
Любил-жалел парень девчонушку,
Потом начал забывать.
Она его взяла отравила,
Потом начала пытать…
У Ивана увлажнялись глаза за толстыми очками, и он мнился мне то обреченным голубем-витютнем, то отравленным неухоженным ухажером. Кто бы мог знать, что по жизни так оно и выйдет?
Начали шалберничать мы с Иваном в 1966 году на квартире у Федора Сухова, в ту пору беззаветного волгоградского поэта, ценимого талантливой литературной молодежью. Сухов на продымленном дырявом диване дочитывал въедливо первую даниловскую повесть «Февраль – месяц короткий», впоследствии знаменитую, Иван переживал, а я к нему приглядывался. И этот пригляд длился без малого тридцать лет…
Мало сказать, что мы были друзьями или соратниками по борьбе за воссоздание казачества, ибо относились к сему с достаточной долей здорового цинизма.
Наверное, никогда у меня не будет столь пристрастного друга, который в глаза мог заявить: мол, нацарапал ты дерьмо и ахинею, но тут же на память процитировать одобрительно несколько строчек.
В этом был весь Иван Данилов. Ерник, бабник, охальник – и в то же время тончайший лирик и один из великолепных русских стилистов прошлого века. Кто сейчас помнит, что в доперестроечное время имя Данилова-прозаика было известно всему читающему Советскому Союзу? Я нисколько не преувеличиваю. Одним из первых волгоградских литераторов он стал печататься в толстых столичных журналах – «Москва», «Молодая гвардия», «Наш современник» – и в более тонких, таких, как «Сельская молодежь», где меня привечали и едва ли не считали единственным крестьянско-казачьим поэтом. Великому Николаю Рубцову давали одно коротенькое стихотворение, а я публиковался под наглым заголовком «Опять Василий Макеев» с обязательной фотографией и роскошным в ту пору пшеничным чубом.
Так что когда я после Литинститута приехал на житие в Волгоград, нам с Иваном пришлось делиться славою. Он более шастал по журналисткам, а я пообвык к поэтессам. Но более всего мы спорили из-за издательских тиражей. Поэзия всегда распределялась менее охотно, а на поле прозы я Данилову не мог противостоять даже в сладчайшем сне. И тогда я выпустил детскую книжку «Стихи про Настю», кажется, полумиллионным тиражом и сунул ее в нос Ивану Петровичу. Он поглядел, хмыкнул и назавтра приволок в Союз писателей уйму «численников», в которых были разбрызганы сплошь и рядом его лирические миниатюры. «Численники» всех видов в то время, да и в теперешнее, висели на стенах едва ли не в каждой советской семье.
Я сдался молча и бесповоротно, и мы трогательно выпили за самую распространенную отрасль российской словесности – толстозадые «численники».
Навряд ли мне удастся описать чин-чинарем наши встречи, ссоры, примирения, лобызания и достаточно серьезные литературные разговоры, так сказать, по гамбургскому счету. Всю жизнь он подсмеивался над стихотворцами, весьма справедливо считал прозу главным литературным действом. И всю жизнь сочинял стихи, редко с кем ими делясь. В 1986 году я почти насильно уговорил его собрать их в отдельную книжку, и то он разбавил ее прозаическими миниатюрами. Горжусь, что одно стихотворение посвящено мне:
Опять весна. И соловьи по кущам
Бессонницею начали страдать.
Как будто им, и день, и ночь поющим,
Иная неизвестна благодать…
Кстати, сам Иван Данилов в последние годы был похож на усталого соловья с посмурневшими глазами. А я его помнил, знал и любил еще во всем возмужалом великолепии. Из всех нас, казачьих литераторов, он ухитрился походить и на станичного самородка-интеллигента, прятавшего за толстенными стеклами очков озорные искорки, и на какого-нибудь Ваньку-ключника, злого разлучника, разлучившего князя с женой…
И он разлучил-таки одного не очень уж волгоградского князя с предполагаемой любовью. В конце прошлого века по всем областным городам проводились ежегодно семинары молодых литераторов. Из славного города на реке Медведице в Волгоград прибыла способная поэтесса и художница, причем красивая и певучая. Про нее уже хорошо знали местные бонвианы и готовились к встрече. После семинарских занятий часть писательской и молодежной братвы очутилась на квартире одной рачительной волгоградской поэтессы и дружно предалась веселью. Чую, Иван толкает меня под столом, показывает на охорошевшую михайличанку, около сей уже вилась комариная рать ухажеров во главе с руководителем семинара.
– Деньги есть? – вопрошает Иван.
– Есть, рублей пятьдесят, – ответствую я. – Но мне завтра надобно купить новые чирики, эти уже совсем развалились.
– Чирики потерпят! – отрезал Иван. – Едем на вокзал пить шампанское.
Тогда только на железнодорожном вокзале можно было в любое время дня и ночи вкусить охлажденного колкого напитка – и мы пустились! Словом, я остался без новых чириков, а Иван с Эльвирой через несколько недель стали мужем и женой, нарожали ребятишек, но в кумовья почему-то приглашали клан Кулькиных, а не мое бесчириковое босячество…
Следует отметить, во времена нашей литературной молодости власти предержащие относились к работникам культуры куда как более внимательно, чем ныне. К примеру, писателя журили, ставили на вид, выдавали выговора, но в то же время ответственный секретарь писательского Союза всегда заседал вместе с членами бюро обкома партии, на гонорар с каждой очередной книжки литератор мог безбедно не дуть в губу несколько лет, почти все получали квартиры в центре города, а про творческие встречи я и не говорю. Хоть каждый день выступай в рабочих общежитиях или на полевых станах.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: