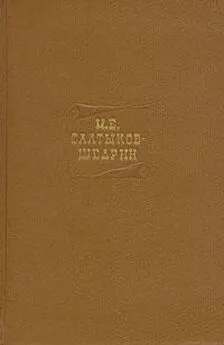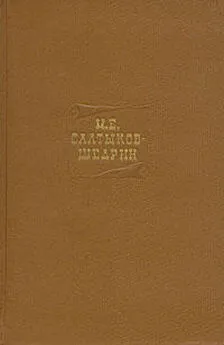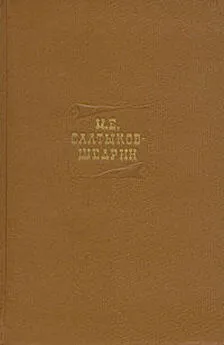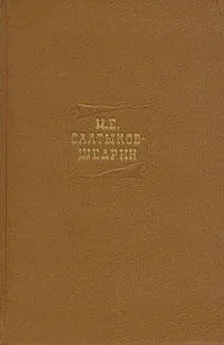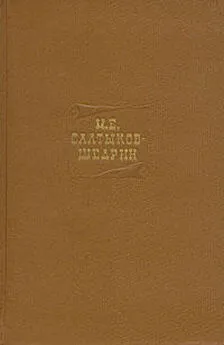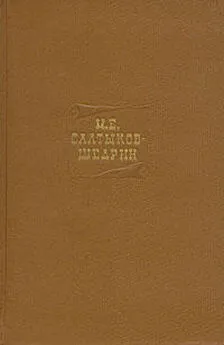Михаил Салтыков-Щедрин - Сатиры в прозе
- Название:Сатиры в прозе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Салтыков-Щедрин - Сатиры в прозе краткое содержание
Самое полное и прекрасно изданное собрание сочинений Михаила Ефграфовича Салтыкова — Щедрина, гениального художника и мыслителя, блестящего публициста и литературного критика, талантливого журналиста, одного из самых ярких деятелей русского освободительного движения.
Его дар — явление редчайшее. трудно представить себе классическую русскую литературу без Салтыкова — Щедрина.
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова — Щедрина, осуществляется с учетом новейших достижений щедриноведения.
Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.
В третий том вошли циклы рассказов: "Невинные рассказы", "Сатиры в прозе", неоконченное и из других редакций.
Сатиры в прозе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но мы, которые были свидетелями и этого добродушия, и этой атласистости, мы, молодые люди прежнего времени, мы не можем быть равнодушными к нашим воспоминаниям. Мы должны хранить их во всей непорочности, мы должны оберегать их от всякого нечистого прикосновения! Боже! как было тогда все тепло и уютно! как любили и уважали мы этих доблестных руководителей нашей юности! и как, с другой стороны, и они радовались и утешались, взирая на нас!
Да и посудите сами, можно ли было не радоваться на нас, тогдашних молодых людей. Возьмите, например, Сеню Бирюкова: что это за прелесть молодой человек был! Во-первых, наружность чисто английская: плечи широкие, щеки румяные, голова выстрижена, даже сзади ящичком — все как следует джентльмену. А во-вторых, и занятия-то у него какие благородные: утром, до двенадцати часов, ногти чистит, от двенадцати до трех визиты делает, от трех до четырех рубашку переменяет, потом едет обедать к Матрене Ивановне, оттуда, dans l’avant-soirée, [126] перед вечером.
к Петьке Козелкову, потом опять рубашку меняет, потом, вечером, к губернатору… И везде-то, во всяком-то доме умеет что-нибудь почтительное сделать: у Матрены Ивановны ручку поцелует; Петру Петровичу сообщит, что к купцу Загребину в лавку новых сельдей привезли; Палагею Александровну поблагодарит, от имени маменьки, за присланный рецепт, как солонину делать… Или опять Свербилло-Замбржецкий Болеслав — что это за необыкновенный малый был! И уклончив, и как будто самостоятелен, и в душу лезет, и как будто кукиш в кармане кажет! Или Бернард Форбрихер, или Петька Козелков! Да, наконец, и сам я… какой я был тогда милый человек! Бывало, что-нибудь и совру, так все такое выходило милое, что у старушки Матрены Ивановны даже брюшко от моих слов пощекочет, и вся она просияет, а меня, грешного, только за ушко легонько потянет…
Удивительно ли после этого, что дела шли без задоринки. Иногда вмешивались в них Матрена Ивановна и Палагея Александровна, но они хлопотали не о мосте через реку Глуповицу, а преимущественно о том, как бы подрадеть родному человечку.
— Матрена Ивановна просила напомнить вашему превосходительству о месте станового для Зонтикова, — докладывает, бывало, Сеня Бирюков.
— Это для усача-то? — спрашивает его превосходительство.
— Да с, вот что вчера вашему превосходительству прошение подал.
— Быть так… определяем! — говорит его превосходительство и потом, уставив глаза в Сеню, повторяет: — Во уважение просьбы Матрены Ивановны, определяем усача в становые!
И таким образом были у нас становые-усачи, становые-бакенбардисты, становые с бородавкой, становые шестипалые. Старик наш фамилий не помнил, и когда, бывало, докладываешь ему о ком-нибудь из становых, он непременно спросит:
— Это который?
— С бородавкой, ваше превосходительство.
— А! с бородавкой!
И затем уж понимает, о ком идет речь.
Хотя мы сами и урожденные глуповцы, но глуповцы, так сказать, отборные, всплывшие на поверхность нашего родного горшка. О том, что происходило там, в глубине горшка, мы не тужили; мы знали, что там живут Иванушки (Иванушки, да еще глуповские — поди, раскуси такую штуку!), что Иванушками этими заправляют бакенбардисты и шестипалые, а бакенбардистов и шестипалых определяет Матрена Ивановна, у которой отменно приготовляют пироги с налимьими печенками, и Палагея Александровна, у которой после обеда такой liqueur des îles [127] ликер с островов.
подают, вкусивши которого остается только убираться поскорей восвояси да часика три соснуть.
Затем жизнь наша была постоянным праздником: мы пили, ели, спали, играли в карты, подписывали бумаги и, подобно сказочной Бабе-яге, припевали: «Покатаюся, поваляюся на Иванушкиных косточках, Иванушкина мясца поевши!»
. . . . . .
И ведь нужно же было, при такой-то жизни, какому-то, прости господи, кобелю борзому заговорить о возрождении! А заговорил! именно заговорил! и не отсох у него язык, и не провалился он сквозь землю, и не пожрал его огонь, и не лопнули его глазыньки!
Глупов, еще загодя, бледнел и трясся при этом слове, и все про себя шептал: «Господи! ах, кабы да мимо!» Еще загодя, при малейшем шорохе, он махал онучами и шугал, как шугает баба-птичница, завидев в небе коршуна, кружащегося над всполошившимся стадом вверенных ей цыплят. «Чем наша жизнь не красна? — говорил он потихоньку, — или пуховики у нас не толсты? или ватрушки наши не сдобны?»
— Старики-то, старики-то наши разве хуже нас были? — шептал обыватель Сила Терентьич на ухо обывателю Терентью Силычу.
— На могилку, видно, ужо к ним сходить! — грустно ответствовал Терентий Силыч.
— Эхма! жили-жили, а теперь на-поди!
— Родителей-то жалко, Сила Терентьич!
— Старики-то наши во какие были!
— Кряжистые были!
— И возможно ли теперича все порядки нарушать! Чтоб господин теперича у стула с тарелкой стоял, а раб за столом развалившись сидел? Или опять, чтоб купец исправника в морду бил, а исправник ему за это барашка в бумажке сулил?
— Праховое дело затеяли!
— Да и то опять ты возьми, что люди-то мы непривышные. Проторили себе дорогу одну, ин и ходить бы по ней до скончания!
— Это точно, что непривышные!
— У меня вон воронко: привык на пристяжке ходить, ну, и сам бес его теперича в оглобли не втащит… Так-то!
— Оно пожалуй, что втащить можно! — говорит Терентий Силыч, задумчиво улыбаясь.
— Оно конечно, коли захочу втащить, отчего не втащить! — соглашается Сила Терентьич.
— Можно втащить! — положительно утверждает собеседник.
— Отчего не втащить! Втащим!
— Да ведь отцы-то наши… пойми, друг!
— Это точно, что отцы наши во какие были!
— Кряжистые были!
И затем в продолжение целых часов разговор развивался на ту же тему и наконец доходил до такого умоисступления, что кроме «ах ты господи!» да «во какие!» ничего и разобрать было нельзя. Глуповцы именовали подобные беседы совещаниями, а некоторые из них, прислушавшись к речам Силы Терентьича и Терентья Силыча, называли их даже бунтовскими и, подмигивая друг другу, приговаривали: «А? каково? каково катают наши-то! Вот бы кого министром сделать — Силу Терентьича… да!»
Одним словом, мы так безмятежно были счастливы, так детски невинны и доверчивы, что предшествовавшее слову «возрождение» время, несмотря на соединенные с ним тревоги и ожидания, все-таки ничего не вызвало на поверхность. Подойдите к луже, взбудоражьте чем ни на есть ее спящие воды — на поверхности их покажутся пузыри. В Глупове и пузырей не показалось.
Указывают мне на Силу Терентьича, как на несомненный пузырь, но, ради бога, какой же это пузырь? Я охотно соглашаюсь, что местный либерализм достиг в нем высшего своего выражения; я соглашаюсь, что ссылка на стариков и их кряжистость есть довольно смелая, в своем роде, штука; но, сознаюсь откровенно, для меня этого недостаточно, чтоб признать его действительным пузырем.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: