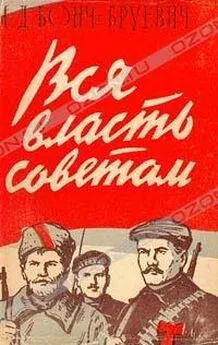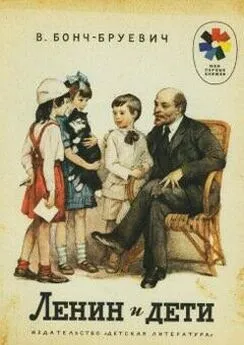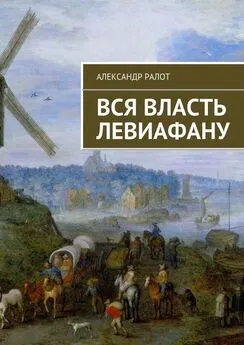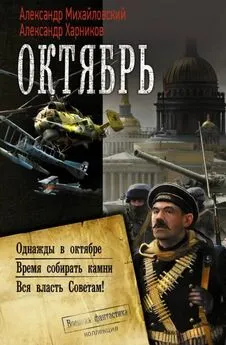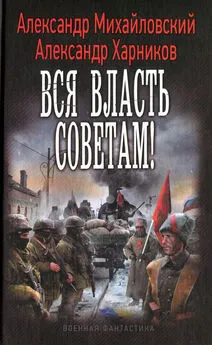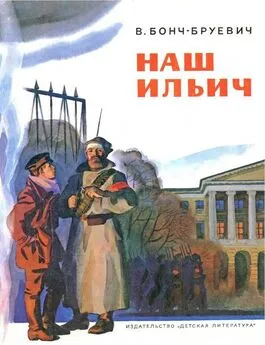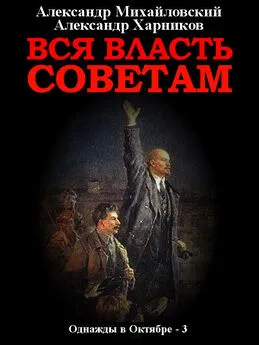Михаил Бонч-Бруевич - Вся власть Советам!
- Название:Вся власть Советам!
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Бонч-Бруевич - Вся власть Советам! краткое содержание
Воспоминания Михаила Дмитриевича Бонч-Бруевича - известного военного деятеля и геодезиста, генерал-лейтенанта, доктора военных и технических наук.
До революции он являлся одним из выдающихся и образованнейших генералов царской армии. Во время Октябрьской революции он твердо стал на сторону Советской власти. Огромную роль в ломке его мировоззрения сыграла первая мировая война с бесцеремонным хозяйничаньем вражеской разведки в наших высших штабах и во дворце Николая II. Свое повествование Бонч-Бруевич начинает с объявления нам войны Германией и ее союзниками.
Администрация сайта решила изменить своему правилу ставить только отрывки воспоминаний современников, касающиеся непосредственно Ленина. Во-первых, автор пишет о встречах мимолетно, более о впечатлениях от них, во-вторых, он пишет о своей переписке с Лениным, а также об отношениях своего родного брата, управделами Совнаркома, с Лениным.
Главное здесь показана внутренняя борьба человека в его выборе между самим собой (его привычками, жизнью, воспитанием, его Эго) и Родиной. Тот выбор, который сейчас стоит перед каждым из нас.
Генерал дожил до 1956 года, никогда не вступал в партию, не подвергался репрессиям, хотя можно сказать, отдал себя стране.
Вся власть Советам! - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Армии эти я предлагал перебросить на Западный и отчасти на Южный фронты. К переброске войск, требующей продолжительного времени, надо было приступить сразу же. Пропускная способность наших железных дорог была очень невелика, и этого нельзя было не учитывать.
Южный фронт, второй по степени важности, требовал усиления не только уже перебрасываемыми 7-й и 31-й дивизиями, но и другими силами. И все-таки я настаивал на том, о чем еще до своего вступления в должность начальника Полевого штаба писал В. И. Ленину: «Западный фронт являлся первостепенным хотя бы потому, что важнейшие для России вопросы всегда решались на западе». Неопределенность западной границы Российской Республики требовала постоянного о ней попечения; наивыгоднейшего же начертания спорной границы можно достигнуть только наилучшей обороной. Замышленная мной переброска войск с Восточного фронта на Западный и должна была обеспечить за нами превосходство в силах в предстоящих боевых столкновениях.
Конечно, в июле 1919 года, когда Деникин, захватив Царицын и выбросив лозунг «на Москву», достиг наибольшего своего расцвета, а Колчак оставался недобитым, требования мои всячески укреплять Западный фронт и считать его первостепенным звучали неубедительно для тех политических деятелей, которые не знали военного дела и не умели мыслить по штабному, спокойно, несколько даже академически и совершенно отвлекаясь от таких понятий и ощущений, как личная боязнь, страх смерти или жалость к погибшим товарищам. Военная наука — наука жестокая и исключающая всякие эмоции во. всяком случае для людей, осуществляющих ее принципы на поле сражений.
Очень нелегко было заставить себя мыслить объективно и даже в какой-то степени абстрактно от окружающего, когда кругом полыхали кулацкие мятежи, а совсем рядом тысячные гарнизоны бежали при появлении первого казачьего разъезда.
Мои политические товарищи и руководители, естественно, переоценивали роль политического фактора, чем порой грешили и белые генералы. Революция с ее мгновенно меняющимися настроениями народных масс вносила много нового в военное дело. Численное соотношение сил воюющих сторон сплошь и рядом оказывалось фактором, отнюдь не определяющим преимуществ той или иной армии. Едва ли не пятнадцать казаков заставили нас сдать Воронеж, считавшийся укрепленным районом, но зато появление двух командиров Краснозеленой армии Черноморья [71] Действовавшие против белых и поддерживавших их с моря англичан партизанские отряды, захватившие ко времени панического отступления разбитой армии Деникина на Кубань Черноморское побережье от Адлера до Новороссийска.
вынудило семидесятитысячную белую армию очистить Майкоп.
Гражданская война изобиловала множеством случаев, казалось бы, опрокидывающих военную науку. Так, многотысячная Кавказская армия очистила Кавказ под натиском незначительных сил белых, и поражение это нельзя объяснить только изменой Сорокина. Политический фактор, то есть перелом в настроении не только кубанских казаков и зажиточного крестьянства Ставропольщины, но и значительной части иногородних, из которых формировались части красной Кавказской армии, сделал ее небоеспособной, и Деникин напрасно хвастался потом в обширных своих мемуарах [72] А. И. Деникин. Очерки русской смуты.
стратегическими талантами генералов «Добрармии».
Политический фактор является, бесспорно, одной из основных, но все же не единственной силой, которую обязано учитывать командование во время войны. Есть факторы чисто военные, те, что изучает военная наука; недоучитывать их значение, так же как и пренебрегать самой этой наукой, разумеется, недопустимо. Во время гражданской войны некоторым политработникам был свойственен этот «грех», тогда как многие так называемые «военспецы» пренебрегали значением политического фактора. И те и другие впадали нередко в печальные ошибки.
Я сам в те времена, безусловно, переоценивал значение специфических «законов войны», придавая им вечный и неизменный характер, и отмахивался от таких важнейших вопросов, как вопросы классового характера сражавшихся армий. Мое счастье, что частое соприкосновение с В. И. Лениным помогало мне уже и тогда, даже не разбираясь в теоретической стороне дела, оценивать его практическую сторону трезвее и правильнее, чем это могли сделать многие из моих собратьев, не сумевших избавиться от своих, созданных воспитанием и положением, шор.
Поэтому и теперь, спустя почти четыре десятка лет, я убежден, что стоял на правильной позиции, считая, что основные наши военные усилия должны быть направлены не против обреченных на самоуничтожение Колчака и Деникина, а против Польши Пилсудского, которую международная реакция, немало разочаровавшаяся уже в русской контрреволюции, сделала основным козырем в своей азартной антисоветской игре.
Глава тринадцатая
Мой полный провал на заседании Реввоенсовета Республики. — Недооценка польского фронта. — Генштабистский «выпуск Керенского». — Приезд Дзержинского. — Слабость нашей разведки. — «Р-революционный» Начвосо. — Назначение главкомом С.С. Каменева. — Поездка с новым главнокомандующим по фронтам. — Встреча с М. В. Фрунзе. — Возвращение в Высшее Геодезическое Управление.
На состоявшемся, наконец, в Серпухове заседании Революционного Военного Совета Республики я блистательно провалился, несмотря на то, что был прав, и последующие события, хотя и не скоро, подтвердили мою правоту.
Победи тогда в Серпухове моя точка зрения, мы бы еще к началу двадцатого года закончили стратегическое развертывание своих вооруженных сил против Польши. Одновременно повысилась бы и боеспособность обращенного к Деникину, столь тревожившего многих Южного фронта.
К сожалению, летом девятнадцатого года, хотя Польша и вела себя по отношению к нам настолько недвусмысленно, что сомневаться в предстоящей с ней войне не приходилось, а всякий опытный военный понимал, что наступление Деникина с юга координируется с приготовлениями Польши на западе, главное командование Красной Армии недооценивало силы и боевые качества поляков, как вероятных наших противников.
Отлично помню, что в разговорах с руководителями РВСР о значении тех или иных наших противников всегда приходилось выслушивать опасения насчет Колчака и Деникина и наименьшие — по поводу военных приготовлений Польши.
Позже выяснилось, что и у назначенного после памятного заседания Реввоенсовета Республики главкомом Сергея Сергеевича Каменева была в это время такая же неправильная, на мой взгляд, точка зрения на «польскую опасность».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: