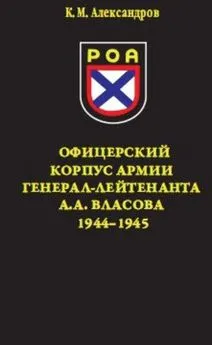Карл Деметр - Германский офицерский корпус в обществе и государстве. 1650–1945
- Название:Германский офицерский корпус в обществе и государстве. 1650–1945
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9
- Год:2007
- Город:М.:
- ISBN:978-5-9524-2602-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Карл Деметр - Германский офицерский корпус в обществе и государстве. 1650–1945 краткое содержание
В этой книге представлена история Германского офицерского корпуса, существовавшего с 1650 по 1945 год. Автор рассказывает о том, какие факторы играли главенствующую роль в образовании офицерского корпуса, по каким критериям принимали на службу и какие изменения происходили с течением времени. Подробно освещает роль германского офицерства в обществе и государстве.
Германский офицерский корпус в обществе и государстве. 1650–1945 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Одно из важнейших средств цементирования отношений между офицерами начало вырисовываться в конце XIX века – им был общий обеденный клуб офицеров, который в армии называли «Казино», а во флоте «Кутерьма». Любое общество или клуб извлекает огромную пользу из владения собственным постоянным местом для встреч, будь это целый дом или только комната, но это так же эффективно, как униформа или любой отличительный знак. Изначально такие клубы создавались для того, чтобы сделать жизнь молодых, неженатых офицеров дешевле и удобнее, но со временем клубы превратились, как говорили, «в лучшие и наиболее подходящие места для встреч». Именно там прежде всего, а не в общественных местах, молодые офицеры должны были обучаться и искать себя; таким образом, все высшие офицеры с удовлетворением восприняли указ императора от 1 января 1897 года. Мы видим в этом социологическую параллель в тенденции прусского дворянства времен Вильгельма II – сосредотачиваться в определенных гвардейских полках и в провинциальной гвардии и делать их своего рода заповедниками.
Теперь, когда подобного рода заведения стали популярными, начали проявляться некоторые негативные моменты, а именно страх перед внешним миром, перед его чуждой, соблазнительной и разделяющей силой. Сообщество начинает терять уверенность в собственной силе притяжения. Признаки этого проявились в упомянутом указе от 1 января 1897 года, в котором император выказывает свою тревогу за младших офицеров, часто посещающих общественные места, «вступая в контакты, которые могут привести их к конфликту с исполнением долга офицеров и, более того, могут иметь для них самые тяжелые последствия». Та же нота звучала и в 1911 году, когда офицеров предупреждали, что нежелательно посещать «послеобеденный чай» в больших берлинских отелях по той причине, что там собиралось весьма «смешанное» общество. Это была почти паническая попытка самоизоляции касты перед лицом идей, трансформировавших остальной мир.
Еще более опасным был риск того, что изолированная каста могла начать воспринимать простые внешние признаки современного капиталистического общества – их материальные жизненные стандарты. Фактически офицерский корпус уже был слишком заражен тягой к роскоши, чтобы его можно было удерживать под контролем рядом средств, рекомендованных императором.
Стремление поддерживать более высокий, зачастую экстравагантный образ жизни был типичен, однако глубинные причины этого скрыто вырабатывались на уровне инстинкта, – разумеется, этого не осознавал ни отдельный офицер, ни офицерский корпус в целом. Еще один фактор – это экономическая революция, хотя, возможно, и не самая главная причина. Короче говоря, перемены в офицерском корпусе коренились в преобразованиях, которым подверглось само общество. Прусский офицерский корпус был «первым сословием в государстве», и в качестве такового он провел последние двести лет или около того обладая безоговорочным правом лидерства. Несомненно, их превосходящие достоинства выделялись на фоне прочих сословий и классов Пруссии. Однако Французская революция произвела небывалый хаос в частной и общественной структуре всех европейских государств; и с тех пор молодое поколение прусской буржуазии, а в некоторой степени и старое поколение оказывало давление на государство, чтобы то признало новый тип лидера и новые права руководства. Целью было ввести обновление старого, некомпетентного рейха в формы нового и сильного, который должен по-настоящему господствовать над своими составными частями. Более чем чего-либо они хотели, чтобы естественные права человека были зафиксированы в конституции. Буржуазия была на марше, и, хотя она оказывала давление на верхние и нижние слои, силы «реакции» упорно сопротивлялись. Тем не менее в армии высшие чины почувствовали, что старому социальному превосходству был брошен роковой вызов, и такое ощущение постепенно распространялось. Чем больше их реальное социальное превосходство ослабевало перед неисчислимыми нападками времени, тем более инстинкт самосохранения заставлял офицеров цепляться за внешние признаки «власти», «уважения», за ценности той фикции, которая в наше время называется «престиж». Такое цепляние за статус, такая приверженность внешним эффектам, которые, как понимал каждый, больше не соответствовали реалиям социальной и политической жизни, жажда престижа, в сущности, втягивали офицеров в «роскошь и долги», как это называют военные историки.
В контексте данного исследования уместен вопрос, является ли роскошь на самом деле признаком буржуазии, а не аристократии? Разумеется, в принципе очевидно, что если расходы пропорциональны доходам или удерживаются в их рамках, то в результате не возникает никаких психологических стрессов. Это просто вопрос поведения. В нашем случае менее значительное дворянство было гораздо больше пропитано социальными стандартами тех, кто был выше их по положению, стремилось воспринять их образ жизни и копировать его. Таким образом задавался тон для всего дворянства, презиравшего деньги и материальные ценности, поскольку было ими в изобилии обеспечено и не имело вкуса к упорядоченному ведению своих дел. Делать это дворянство предоставляло наемным работникам. И опять же классовая солидарность связывала все слои дворянства, а отсюда вытекали следующие последствия. Менее знатное дворянство, утратив свои привилегии в XIX веке, сохраняло ведущее положение в обществе, хотя и не могло позволить себе вести жизнь в стиле высшего дворянства и на самом деле жило в стиле экономившей на всем буржуазии. Поскольку социальная позиция их была обеспечена, они не нуждались в том, чтобы казаться чем-то большим, чем они были на самом деле, тратя больше, чем у них есть. Преимущества, объясняемые благородным рождением, всегда возвышали их над буржуазией, какой бы богатой та ни была.
Вследствие этого parvenu (выскочка – фр.) все упорнее пытался скрыть свой комплекс неполноценности, которым он страдал от рождения, пытаясь обрести внешние манеры и обычаи старой аристократии. На самом деле он мог посчитать их слишком переоцененными, однако это была роскошь и внешняя показуха, которая, как им казалось, вызывала уважение. И теперь наступила очередь менее знатного дворянства почувствовать себя неустроенным, иногда даже униженным этим процессом компенсации буржуазии за преимущества, полученные им при рождении, и, в свою очередь, оно легко подвергалось искушению жить на более широкую ногу. Таким образом они надеялись держаться вровень с буржуазными нуворишами, к которым испытывали чувство социальной конкуренции и которым завидовали. Все это заставляло их жить не по средствам и делало их еще более нуждающимися в деньгах, чем когда-либо.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: