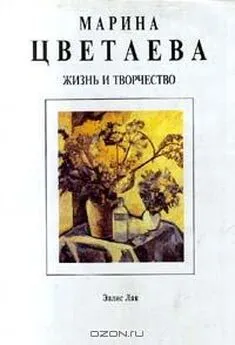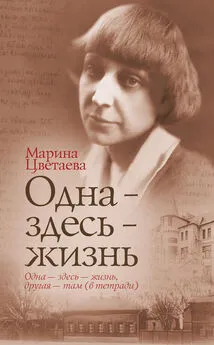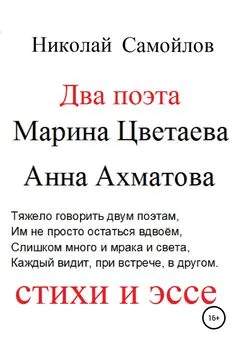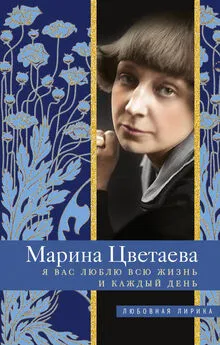Анна Саакянц - Марина Цветаева. Жизнь и творчество
- Название:Марина Цветаева. Жизнь и творчество
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эллис Лак
- Год:1999
- Город:М.
- ISBN:5-88889-033-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анна Саакянц - Марина Цветаева. Жизнь и творчество краткое содержание
Новая книга Анны Саакянц рассказывает о личности и судьбе поэта. Эта работа не жизнеописание М. Цветаевой в чистом виде и не литературоведческая монография, хотя вбирает в себя и то и другое. Уникальные необнародованные ранее материалы, значительная часть которых получена автором от дочери Цветаевой — Ариадны Эфрон, — позволяет сделать новые открытия в творчестве великого русского поэта.
Книга является приложением к семитомному собранию сочинений М. Цветаевой.
Марина Цветаева. Жизнь и творчество - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
…И если сердце, разрываясь,
Без лекаря снимает швы, —
Знай, что от сердца — голова есть,
И есть топор — от головы!..)
Одиннадцатым января датировано стихотворение, родственное двум предыдущим, в котором бытие поэта вмуровано в бытовую, убийственную обыденность:
Существования котловиною
Сдавленная, в столбняке глушизн,
Погребенная заживо под лавиною
Дней — как каторгу избываю жизнь.
Гробовое, глухое мое зимовье.
Смерти: инея на уста-красны' —
Никакого иного себе здоровья
Не желаю от Бога и от весны.
И, наконец, 15 января написано еще одно стихотворение такого же трагического ряда: "Что, Муза моя? Жива ли еще?.." — и эта первая строка уже о многом говорит, — как и все стихотворение, финал которого не нуждается в комментариях:
Ну, Муза моя! — Хоть рифму еще!
Щекой — Илионом вспыхнувшею
К щеке: "Не крушись! Расковывает
Смерть — узы мои! До скорого ведь?"
Предсмертного ложа свадебного —
Последнее перетрагиванье.
Да, именно так: в январе 1925 года, с нетерпением ожидая рождения сына, Марина Цветаева пишет стихи о… смерти. Точно так же в Феодосии она, двадцатилетняя молодая женщина, у которой жизнь шла вполне безоблачно, писала, как мы помним, стихи, в которых "захлебывалась от тоски".
Поза? Верность раз навсегда избранному образу? Нет, дело совсем в другом. Все та же извечная двоякость? Пожалуй, хотя в данном случае это слово лишь называет, но не объясняет. Не проясняют вопроса и такие слова, как трагичность цветаевского восприятия мира, хотя они верны: но в них заключено следствие, а не изначальность.
Наше объяснение тоже будет лишь попыткой добраться до этой сокровенной сути цветаевой личности и — отсюда — поэзии, до ее тайны, которую она сама всю жизнь разгадывала, пытаясь облечь в слова нечто, плохо поддающееся обозначению, назвать неназываемое, — то, для чего в человеческом языке, возможно, и не существует адекватного обозначения.
Марина Цветаева, великий поэт, была, как нам представляется, создана природой словно бы из "иного вещества": всем организмом, всем своим человеческим естеством она тянулась прочь от земных "измерений" в измерение и мир (или миры) — иные, о существовании которых знала непреложно. Она придавала значение снам, толковала их, верила им, — ведь многие сбывались. Можно сказать, что она любила "сновидеть". С ранних лет чувствовала и знала то, чего не могли чувствовать и знать другие. Знала, что "поэты — пророки", и еще в ранних стихах предрекала судьбу Осипа Мандельштама, Сергея Эфрона, не говоря уже о своей собственной. Это тайновидение (или яснозрение) с годами усиливалось, и существовать в общепринятом человеческом "мире мер" становилось труднее.
Что все это было? Вероятно, прежде всего — страдание живого существа, лишенного своей стихии; человеку не дано постичь мучения пойманной птицы, загнанного зверя, и речь, разумеется, ни в коей мере не идет о сравнении, а лишь — о страдании, непостижимом для окружающих. Разумеется, страдание не было единственным чувством: цветаевских чувств и страстей, ее феноменальной энергии хватило бы на многих и многих. Однако трагизм мироощущения поэта идет именно от этих не поддающихся рассудку мук.
Какие здесь напрашиваются аналогии, пусть и весьма приблизительные? Что приходит на ум, о ком невольно вспоминается?
О ясновидящих, пророках, — вообще о людях, наделенных сверхвозможностями, которые они, по их утверждению, черпают из космоса…
Об индусских йогах, общающихся на расстоянии, знающих свои прежние воплощения. Наконец, о прорицательницах-"ведьмах", которых в средние века сжигали на кострах…
Что-то подобное было и в уникальной личности Марины Цветаевой. Да только ли в ней? А феномен Пушкина? Лермонтова? Бунина? Блока? Белого? — Может быть, это и есть сущность истинного поэта, если только, конечно, он ПОЭТ, а не стихотворец? Но эта проблема слишком грандиозна, и мы пресекаем дальнейшие рассуждения на эту тему.
Нужно просто поверить в простое "чудо": мятущемуся "естеству" Цветаевой было тяжко, душно в телесной оболочке. "Из тела вон — хочу" — это не литература, а состояние. И то, что говорили мы о ее поэзии в начале этой книги, — о порыве ввысь, в лазурь, об этом самовозгорании (в юности она называла это жаждой революции), об огненном вертикальном полете — не было литературным приемом. Это было каким-то промежуточным самоощущением — между бытованием в земных пределах и отрыванием, отделением от земли — полетом в бесконечность, во Вселенную. Об этом — "Поэма Воздуха", но до нее еще — более двух лет…
Жить приходилось, однако, на земле.
Итак, январь 1925 года. Опять из писем к Ольге Елисеевне можно представить себе жизнь Цветаевой и ее семьи. За исключением тех моментов, когда прорывалась к тетради, Марина Ивановна живет в отрешении от себя. Клеит елочные украшения к "русскому" Новому году: "Аля, за медлительностью, только успевает ахать"; "изобретаю, вырезаю и оклеиваю сама… Привыкаю радоваться чужими радостями". Продолжает учить дочь французскому. Мучительно размышляет, нужно ли будет и сможет ли взять няню… "Вы видите, чем я живу? Нет, я не этим живу". И в самом деле: она занята "Ковчегом" — название сборника придумала сама; вместе с Валентином Федоровичем Булгаковым обсуждает его; 11, 17 и 27 января пишет ему по поводу содержания и авторов сборника — деловые, сухие письма, словно всю жизнь только этим и занималась. Ходит с Алей в гости, на елки. Страдает оттого, что дома — убого и неприглядно: "в комнатах — весь уют неприюта… Эта зима — наиглушайшая в моей жизни, точно я под снегом" (письмо от 8 января, а 11-го уже готово стихотворение "Существования котловиною…"). И дальше — откровение, подтверждающее сказанное нами выше:
"Боюсь, что беда (судьба) во мне, я ничего по-настоящему, до конца, т. е. без конца, не люблю, не умею любить, кроме своей души, т. е. тоски, расплесканной и расхлестанной по всему миру и за его пределами. Мне во всем — в каждом человеке и чувстве — тесно, как во всякой комнате, будь то нора или дворец. Я не могу жить, т. е. длить, не умею жить во днях, каждый день, — всегда живу вне себя. Эта болезнь неизлечима и называется: душа".
На людях ей плохо, скучно, она пишет о полной невозможности (отсутствии повода) вымолвить слово (речь о новогодней елке у Чириковых). Но без этих "скучных" людей тоже ведь жить нельзя. Марине Ивановне необходима помощь: показаться врачу в Праге — нужно сопровождение, и с нею едет… Муна Булгакова, которую Марина Ивановна не любит и любить не может по вполне понятной причине. Отсюда — прорвавшееся торжество в письмах от 16 и 19 января: "А у Муны с Р<���одзевичем> к концу… Новость: Р<���одзеви>ч уехал в Латвию — насовсем".
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: