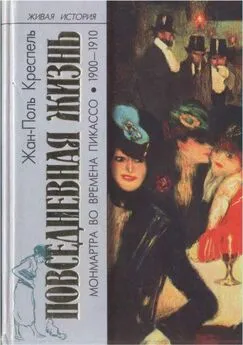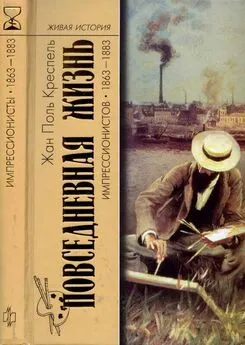Жан-Поль Креспель - Повседневная жизнь Монпарнаса в Великую эпоху. 1903-1930 гг.
- Название:Повседневная жизнь Монпарнаса в Великую эпоху. 1903-1930 гг.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая Гвардия
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:5-235-02368-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жан-Поль Креспель - Повседневная жизнь Монпарнаса в Великую эпоху. 1903-1930 гг. краткое содержание
Эта книга посвящена повседневной жизни Монпарнаса, одного из знаменитейших районов Парижа, в самую яркую его эпоху - с 1905 по 1930 годы. В те времена здесь жили и творили, то погибая от нищеты, то утопая в роскоши, такие прославленные писатели и художники, как Аполлинер, Хемингуэй, Модильяни, Пикассо, Шагал и многие другие. Читатель узнает о том, как отапливались и чем украшались их жилища, каково было их отношение к вину и умывальным принадлежностям, как они добывали средства к существованию, ходили в гости, шутили, сплетничали и устраивали потасовки.
Повседневная жизнь Монпарнаса в Великую эпоху. 1903-1930 гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
А вот Троцкий действительно приходил в «Ротонду», и довольно часто. Здесь он виделся с Диего Риверой, с ним он дружил (он снова встретит его в Мексике, когда из-за разрыва со Сталиным во второй раз отправится в ссылку) и вел бесконечные споры о роли художника в обществе. Можно допустить, что разговоры с Троцким помогли Ривере, до тех пор увлекавшемуся кубизмом, проникнуться выразительной народностью; в дальнейшем он покроет монументы Мехико огромными фресками, изображающими борьбу мексиканского народа за независимость.
Более постоянными гостями в «Ротонде» были меньшевики Ю. О. Мартов и Л. О. Лапинский, а также удивительный А. В. Луначарский, коммунист-мистик. В романтический период революции Ленин, которого он забавлял, назначил его народным комиссаром просвещения. С ним вместе часто видели Илью Эренбурга, революционера со школьной скамьи, приехавшего в Париж в восемнадцать лет и зарабатывавшего на жизнь переводами романов Анри де Ренье, а также служившего гидом для русских туристов. Политический «угорь», благополучно переживший сталинские чистки, Эренбург вызывал всяческие подозрения у Ленина - одетого с иголочки мелкого буржуа - своим не очень чистым и неряшливым видом. Макс Жакоб считал Эренбурга хорошим поэтом и склонил к этой точке зрения Аполлинера. Его воспоминания, безусловно, содержат точную информацию о героических годах Монпарнаса, когда от голода у него кружилась голова, если ему доводилось проходить мимо ресторанных кухонь.
Деятельность русских революционеров в Париже до 1914 года отличалась высокой активностью, несмотря на упорную слежку полиции, а ей в свою очередь не давало покоя посольство России. В их распоряжении находились библиотеки, типографии на бульваре Сен-Жак и проспекте д'Орлеан, где печатались их газеты, а также места для собраний. Они делились на группировки, иногда соперничавшие между собой, как, скажем, меньшевики и социалисты-революционеры, организовывавшие собственные конференции, собрания и даже праздники. В 1917 году, после начала революции, различными путями большинство из них вернулось в Россию. За собой они увлекли некоторых художников - Штернберга, Менжинского… Менжинский стал одним из руководителей ЧК. Штернбергу повезло меньше: его признали формалистом, исключили из Союза художников, и он умер в крайней бедности. Падение царского режима привело к замене русских революционеров в кафе и гостиницах Монпарнаса русскими «белыми», они заняли в «Ротонде» еще 85 теплые стулья, оставленные большевиками. Началась вторая русская эпоха района, во времена которой процветали русские рестораны, такие, как «Доминик» на улице Бреа, куда клиентов доставляли такси, управляемые с чисто славянской прихотливостью бывшими офицерами царской армии. После революции, до того как Сталин снова опустил «железный занавес», интеллигенция, разделявшая коммунистические убеждения, могла приехать в Париж. Илья Эренбург не пренебрег этой возможностью. Редчайший случай: он умудрялся спокойно совершать поездки в Париж до самой смерти в 1967 году; литературная деятельность служила для таких, как он, лишь предлогом. Более стремительными оказались визиты Маяковского и Есенина. Есенин жил с Айседорой Дункан, состоявшей на содержании у Зингера, «короля швейных машин». Этот роман напоминал «Тристана» и картины Маркса Бразерса. Скромным отелям перекрестка Вавен поэт предпочитал «Крийон». В результате визита Маяковского появилась поэма, ее он продекламировал на банкете, устроенном в его честь: «Париж, фиолетовый, Париж в анилине, вставал за окном «Ротонды» («Верлен и Сезанн», 1925).
Евреи с Востока
Вернемся к «Парижской школе»: всего сто художников, и из них лишь двадцать знаменитых. Но, тем не менее, она пережила период мощного расцвета, породила множество оригинальных произведений. Состоявшая большей частью из евреев, приехавших с Востока, она несла отпечаток барочного экспрессионизма и вечной меланхолии, присущей еврейской душе. Рассказывая о ней, Бернар Дориваль писал: «Даже счастливые дни - это дни скорби: так, в праздниках Шагала всегда присутствует жалость и грусть… Порок - единственный властитель на земле… Всемогущий в этом мире, он делит престол лишь со своей старинной подругой - смертью, еще одной навязчивой идеей художников «Парижской школы». Шагал высматривает ее в заснеженных просторах; вдохновленный ею, пишет свои картины Сутин… Приговоренное к смерти, измаранное пороками, омраченное чередой неизбежно печальных событий, человеческое существование представляется этим художникам в исключительно безрадостном свете». [17] Bernard Dorival. Les Etapes de la peinture francaise contempo-raine. Gallimard.
Подготовка, полученная евреями в художественных школах Польши и России, значительно усугубила тенденцию к упадочному экспрессионизму. Очень многие преподаватели в Вильно, Минске, Киеве, Москве или Кракове в большей степени испытывали воздействие творчества немецких экспрессионистов «Моста» или «Синего всадника», нежели фовистов или кубистов, тем не менее, достаточно хорошо им известных.
Благодаря романтическим историям на первых позициях в списке лидеров «Парижской школы» зачастую оказывались не самые лучшие мастера в художественном и творческом плане. Легенда поставила в один ряд таких незначительных художников, как Кислинг, Паскен, Модильяни (по большей части обыкновенный маньерист), потому что их судьбы отличались необычностью и драматизмом, и подлинных новаторов, величайших художников XX столетия: Бранкузи, Сутина, Шагала, Цадкина… Из истории современного искусства можно безболезненно исключить первых, что совершенно невозможно в отношении вторых. Среди экспрессионистов существовали разные тенденции. В процессе творчества некоторые художники настолько отошли от своих изначальных концепций, что стали им совершенно чуждыми. Шагал со своим типично еврейско-славянским пристрастием к ярким живым краскам замкнулся в творчестве, питаемом его воображением и воспоминаниями детства. Его принято помещать где-то рядом с сюрреалистами. Цадкин, Липшиц, не отвергшие лиризма собственной нации, умудрились подчинить его принципам кубизма. Сюрваж изобрел таинственное искусство, также близкое к сюрреализму. Что касается Ларионова и Шаршуна, то их работы можно отнести к абстрактному искусству, хотя оно, впрочем, не имело ничего общего с творчеством других русских художников, обосновавшихся во Франции.
И не поддающиеся классификации персонажи «Парижской школы»: Модильяни, чье элегантное декадентское искусство вдохновлялось сиенскими примитивами; Фудзита, сумевший совместить японские традиции и западный авангард; Пуни, приехавший поздно и прошедший путь от конструктивизма до ташизма Вюйара… В общем, «Парижская школа» объединила много разных и необычных талантливых художников. Ее наибольшее значение состоит в смешении талантов и жанров, из чего и выросло современное интернациональное искусство.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: