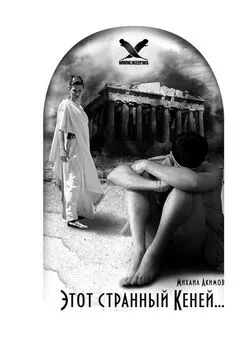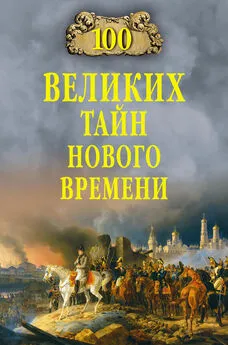Николас Хеншелл - Миф абсолютизма. Перемены и преемственность в развитии западноевропейской монархии раннего Нового времени
- Название:Миф абсолютизма. Перемены и преемственность в развитии западноевропейской монархии раннего Нового времени
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Алетейя»
- Год:2003
- Город:Санкт–Петербург
- ISBN:5-89329-569-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николас Хеншелл - Миф абсолютизма. Перемены и преемственность в развитии западноевропейской монархии раннего Нового времени краткое содержание
В монографии известного британского историка Николаса Хеншелла исследуются характерные особенности развития западноевропейских (главным образом французской и английской) монархий ХVI–ХVIII вв.; значительное место уделяется «развенчиванию» так называемого историографического мифа об абсолютизме.
Для историков, а также широкого круга читателей, интересующихся политической историей западноевропейских монархий раннего Нового времени.
Миф абсолютизма. Перемены и преемственность в развитии западноевропейской монархии раннего Нового времени - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
ПЕРСОНАЛЬНАЯ МОНАРХИЯ
Роль личности в истории волнует ученых уже много столетий. Влияет ли отдельный человек на ход событий, или он всего лишь инструмент для
действия сил более важных, чем он сам, производственных, демографических и идеологических? Институт монархии предлагает ответ на этот вопрос. Поскольку монархия концентрирует власть в одном человеке, непредсказуемые события, такие как рождение ребенка или наследование престола, определяют судьбу государства. Законы о престолонаследии придавали матримониальной и репродуктивной деятельности королей эпохальное значение. В конце XVII века внутренняя и внешняя политика европейских стран определялась тем, что у английского и испанского монархов не было подходящих наследников. Подавляющее большинство войн XVIII столетия, которые велись до 1792 года, возникало из‑за споров о наследовании трона. Во время восстаний провинции нередко поддерживали боковые ветви королевской фамилии в борьбе против короны. В 1718 году Бретань обращается к Филиппу V Бурбону, королю Испании, с просьбой оказать помощь в воссстании против регента герцога Орлеанского. Сам монарх мог быть кем угодно — гением, как Фридрих II, или слабоумным ребенком. Действовал ли он самостоятельно или нет, был ли он энергичным или неуверенным в себе, его личность неизбежно отражалась на характере и стиле управления.
Некоторая преемственность между царствованиями достигалась благодаря тому, что министры оставались на своих постах. Но это было возможным лишь при условии, что король будет к ним благосклонен. А так как новые государи имели собственные планы, или, по крайней мере, собственную команду, быстрое устранение предшественников стало обычной процедурой как в Англии с ее так называемой парламентской монархией, установившейся после 1688 года, так и на континенте. В 1728 году одна лондонская газета опубликовала письмо с предостережением в адрес самонадеянных политиков: «Поскольку их положение зависит от воли суверена, в порыве гнева он вмиг может лишить их славы и величия; по большому счету их власть прекращается со смертью государя, и редко д а ж е самый умудренный государственный деятель остается фаворитом двух государей». 1
Считается, что привязанность монархов Ганноверской династии к Уол–полу определялась его влиянием в палате общин. Тем не менее сам он не думал пережить Георга I. Иногда новый монарх отрекался от деяний своего предшественника весьма решительно. Падение министров Генриха VII в 1509 году и министров Людовика XV в 1774–м с одной стороны показывает, что эти министры себя дискредитировали, а с другой — что новый государь мог таким образом легко добиться популярности. Здоровье правящего монарха всегда вызывало пристальный интерес.
1 Black J. 1990. Robert Walpole and the Nature of Politics in Early Eighteenth‑Century England. Macmillan. P. 37.
Значимость персоны монарха несомненна. Хотя бесконечные споры в придворных кругах и оказывали влияние на политику, избранная программа нуждалась, как минимум, в одобрении короля. Даже когда монарх полагался на главных министров и фаворитов, его одобрение было необходимым. Личность некоторых государей раннего Нового времени действительно была основной движущей силой в политической жизни их стран и оставила яркий след в истории. Петр I в России, Фридрих II в Пруссии и Иосиф II в Австрии действовали столь решительно, что не оставляли места политическим дискуссиям. Если короли с менее сильным характером расширяли полномочия советников, настроение и темперамент правителя пристально изучались его приближенными. Они скрупулезно отмечали и наиболее подходящее время для подания прошений, и любое новое пристрастие короля.
Элемент случайности, который старались предугадать политические группировки, был связан не только с личностью монарха. Другим фактором были его отношения с родственниками. Ганноверская династия, монархии Бурбонов и Романовых оказывались серьезно ослабленными из‑за разногласий внутри своего клана. В исключительных случаях семейные раздоры могли поставить под угрозу стабильность режима. Узурпация престола, совершенная Ричардом III, окончательно подорвала положение Йор–ков и открыла дорогу династии Тюдоров. Немногие короли могли доверять своим родным и близким. Политические разногласия внутри королевского семейства были манной небесной для недовольных, так как это придавало оппозиции законные основания. Сыновья представляли собой серьезную опасность, если уже в правление отца становились достаточно взрослыми. Наследование престола малолетним государем таило в себе еще худшую опасность. Юный возраст правителя означал, что в лучшем случае начнется борьба за власть, а в худшем — массированное наступление на королевские прерогативы, оказавшиеся в неподготовленных руках. Отношения между знатью и короной обострялись во время периодов малолетства короля в 1550, 1610, 1640, 1710 и 1720–е годы. Самой серьезной угрозой были братья и принцы крови. Некоторые, например брат Людовика XIII Гастон, постоянно устраивали заговоры с целью добиться трона. Сильным правителям, подобным Людовику XIV, удавалось превратить родичей в марионеток и добиться того, чтобы они исполняли свою роль подобающим образом. Они могли служить кандидатами на вакантные или выборные престолы. Жены и матери также находились под подозрением. Софья–Фредерика–Августа Ангальт–Цербстская никогда не получила бы имя Екатерины Великой, если бы не одобрила убийство своего мужа, российского императора Петра III.
ПРЕРОГАТИВЫ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ
Влияние монарха определяли его прерогативы. Они использовались каждый раз, когда подвергались сомнению непопулярные меры. Когда чиновника спрашивали, по какому праву он действует, ответ гласил: «именем короля». Королевские прерогативные полномочия были определены вплоть до мельчайших деталей, однако оставалось место и для двусмысленностей и уступок. Прерогативы не были статичны. Без мудрого и осторожного использования они теряли эффективность. Применение прерогатив было взрывоопасно, так как при этом больше людей страдало, чем выигрывало. Людовик XIV говорил, что после каждого произведенного им назначения он наживал девяносто девять врагов. И все же монархи, боявшиеся использовать свою власть, быстро ее теряли, как, впрочем, и те, кто злоупотреблял ею.
Прерогативы, в которых воплощалась королевская власть, в раннее Новое время имели два основания. Первым был тезис, заимствованный из сочинений Бодена, гласивший, что в государстве должна существовать только одна власть, суверенная, или верховная, а не разделение полномочий между монархом и феодальными сеньорами, характерное для Средних веков. Вторым основанием была вера в то, что Бог сделал короля своим наместником на земле, и эта должность наследуется в правящем семействе. Так как Боден не определил, кто именно должен о б л а д а т ь с у в е р е н и т е т о м, то в совокупности оба основания породили теорию божественного права королей. Запрещено выступать даже против дурного короля (долг непротивления). Можно сопротивляться дурным приказам, однако подданным следует смириться с их последствиями (долг пассивного повиновения). Короли несут ответственность перед Богом, который в свое благословенное время разберется с дурными правителями, а пока подданным следует покоряться им. Эта идеология вытеснила средневековые представления о феодальном контракте, согласно которому подданные могли разорвать свою клятву верности, если король не выполнял взятые на себя обязательства. Однако в XVIII столетии идея контракта приняла иную форму. Монарх правил в соответствии с «общественным договором», по которому он был обязан улучшать благосостояние людей, а те — повиноваться ему. Вариант, при котором стороны отказались бы недовольны выполнением условий, не оговаривался.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: