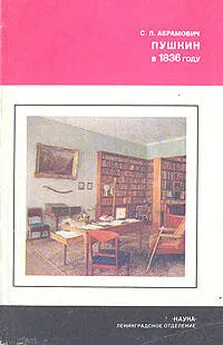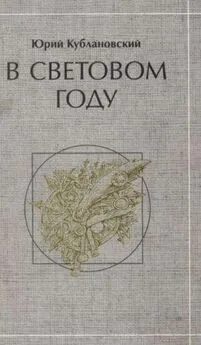Юрий Молок - Пушкин в 1937 году
- Название:Пушкин в 1937 году
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:5-86793-117
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Молок - Пушкин в 1937 году краткое содержание
Книга посвящена пушкинскому юбилею 1937 года, устроенному к 100-летию со дня гибели поэта. Привлекая обширный историко-документальный материал, автор предлагает современному читателю опыт реконструкции художественной жизни того времени, отмеченной острыми дискуссиями и разного рода проектами, по большей части неосуществленными. Ряд глав книг отведен истории «Пиковой дамы» в русской графике, полемике футуристов и пушкинианцев вокруг памятника Пушкину и др. Книга иллюстрирована редкими материалами изобразительной пушкинианы и документальными фото.
Пушкин в 1937 году - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Сама композиция мемориального номера журнала была симметричной. Стихотворный пушкинский «Памятник», подобно тексту, выбитому на пьедестале, открывал журнал, а роль собственно памятника заменял словесный портрет: «Каким должен быть памятник Пушкину?»
Строго говоря, дискуссия на эту тему началась еще в предыдущем номере журнала (шла в трех номерах) под девизом «Памятники великим писателям». Речь шла о новом литературном плане Ленинграда, о «географии памятников», как называлась статья архитектора Е. Катонина. Скульпторы В. Козлов и Л. Шервуд, будущие участники конкурса на новый памятник, перевели разговор на Пушкина. Этот разговор был продолжен в юбилейном номере журнала, став своего рода литературной программой будущего памятника. Круг участников дискуссии был расширен. Кроме скульптора В. Лишева («Воплотить образ поэта в монументальной скульптуре») слово было предоставлено народному артисту Борису Бабочкину, прославившемуся в роли Чапаева («Пушкин — победитель»), писателю В. Каверину, незадолго перед этим опубликовавшему роман о пушкинистах «Исполнение желаний» (его статья называлась «Памятник гению»). Открывался раздел статьей Юрия Тынянова.
Неудивительно, что в этой дискуссии ему была отведена роль самого авторитетного судьи. Правда, в публиковавшихся одновременно в другом ленинградском журнале — «Литературный современник» — главах тыняновского романа, которые критика считала «прологом, вступлением к великой жизни» [3] Гринберг И. Начало романа // Звезда. 1937. № 1. С. 216. В том же номере журнала помещены письма читателей о творчестве А. С. Пушкина и о романе Тынянова «Пушкин».
, Пушкин в нем был еще «ребенком и отроком» [4] См.: Гус М. Пушкин — ребенок и отрок (о романе Ю. Тынянова) // Красная новь. 1937. № 5.
, он только покидал лицей. Но именно с Тыняновым связывали надежды на создание нового литературного памятника поэту, который, как мы знаем, остался незавершенным, так же как новый скульптурный памятник Пушкину в те годы вообще не был осуществлен.
Великая жизнь оказалась недописанной Тыняновым. Что касается памятника поэту, то он так и остался в те годы на уровне идей (дело не пошло дальше конкурсных проектов), само обсуждение которых, однако, стало характерным фактом культуры 30-х годов, с их риторическим пафосом сотворения новых идеалов и переосмысления, больше отрицания, старых. Такой сдвиг в общественном сознании — от литературного образа поэта к памятнику поэту — имел свою традицию, которая сложилась к концу XIX века.
Русский XIX век, так жестоко расправившийся со своим первым поэтом, как бы искупал свою вину, собрав народные деньги и открыв 6 июня 1880 года в Москве памятник Пушкину, «крещенный» речами Достоевского, Тургенева, Аксакова. Возвращение поэта в русскую культуру сопровождалось актом ее духовного самосознания, складывавшегося уже в послепушкинскую эпоху. Только литература, создавшая поэзию «мести и печали», избравшая своими героями Катерину и Базарова, Соню Мармеладову и князя Мышкина, могла возвести в ранг героя поэта-гения и поэта-жертву одновременно. В один день его канонизировать и его оплакивать.
Эта нота преклонения-покаяния звучала даже у тех, кто сам непосредственно не присутствовал на пушкинских торжествах. Например, у А. А. Фета: «Исполнилось твое пророческое слово: Наш старый стыд взглянул на бронзовый твой лик…». «Стыд» и «лик» — как далека была эта лексика от возвышенной риторики самых близких современников поэта: «Блажен, кто пал, как юноша Ахилл…» — так начинал В. Кюхельбекер свои стихи к лицейской годовщине 1837 года, первой годовщине без Пушкина. Ни романтический Пушкин О. Кипренского, ни «домашний» В. Тропинина, ни мраморные бюсты С. Гальберга и И. Витали уже не отвечали в 80-е годы тогдашним представлениям о поэте. В этом смысле характерен скромный офорт Л. Дмитриева-Кавказского, современный не Пушкину, а памятнику Пушкину, где поэт выглядит старше своих лет. «Таким, может быть, был бы Пушкин, дожив до 50 лет, но едва ли он мог быть и был таким при жизни», — писал о нем еще первый историк пушкинских портретов [5] Либрович С. Ф. Пушкин в портретах. История изображений поэта в живописи, гравюре, скульптуре. СПб., 1890. С. 104.
. Сдвиг в возрасте оказался сдвигом в историческом времени и был продиктован намерением продлить, «выдвинуть за эпоху» образ поэта. Об этом говорит здесь отход от иконографии поэта и присутствие на полях одного из оттисков «чужого текста» — офортной ремарки в виде наброска головы Достоевского. (Потом у Пушкина появятся и другие спутники, тоже не обязательно из числа его современников, как, уже в 30-е года нашего века, Андрей Белый на тройном портрете работы К. Петрова-Водкина [6] Речь идет о картине К. С. Петрова-Водкина «А. С. Пушкин в группе писателей» (1930-е гг.), один вариант которой был уничтожен автором (см.: Епатко Ю. Автопортрете… Пушкиным // Новый часовой. 1998. № 6/7).
.) Говорит о том же и образ самого поэта, так не похожий ни на один из его прижизненных портретов, как будто перед нами не Пушкин, а страдальческий лик Достоевского.
Опекушинский памятник, выдержанный в классицистических нормах, хотя и с некоторым романтическим оттенком, не поддается такому прочтению. Однако нота скорби и печали, или, как говорили современники, задумчивости, сквозит и в склоненной голове поэта, и в коротком шаге его развернутой и тоже несколько склоненной фигуры, и в жесте руки, обращенном не во внешний мир, а к себе. Отказ скульптора от многофигурной композиции и выветрившихся к тому времени аллегорий, не мраморная, а бронзовая, черная фигура одинокого поэта, как отдельного человека, дают ему еще и другой план образа — выразительный силуэт. К этому следует прибавить, что этот памятник был как бы авторизован самим поэтом. Подобный характер ему придавали две последние строфы пушкинского стихотворения, текст которых был высечен на пьедестале. С левой стороны: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой…» [7] Интересно отметить, что эти стихи участвовали на самой ранней стадии работы над проектом памятника, так, еще на модели работы Н. С. Пименова (1862) предполагалось поместить полный текст стихотворения (см.: Алексеев М. П. Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг…» (Проблемы изучения). Л., 1967. С. 11–12).
, с правой: «И долго буду тем любезен я народу…» [8] В литературе о памятнике надписи обычно цитируют наоборот, сначала на правой стороне пьедестала, потом на левой, нарушая этим не только порядок пушкинских текстов, но и логику чтения текста памятника, слева направо, аналогичную чтению книжного текста (см.: Суслов И. М. Памятник Пушкину в Москве. М., 1968. С. 42).
. Первую строку «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» восполняла фигура поэта. Памятник Пушкину и «Памятник» Пушкина, не имеющий прямого отношения к опекушинской статуе, оказались вместе, в одном историческом времени. Неудивительно, что текст надписей читали как текст скульптурного памятника [9] «Стоя перед памятником Пушкину, мы читаем строфу из „Памятника“, и эти замечательные слова участвуют в данном скульптурном произведении — дополняют его, превращаясь, если так можно выразиться, в монументальный плакат» (Фаворский В. А. Мысли о монументальном искусстве <1958> // Фаворский В. А. Литературно-теоретическое наследие. М., 1988. С. 423–424).
, который один из современников его открытия бесхитростно перефразировал: «Ты памятник себе воздвигнул превосходный…» [10] Маркярон. Памяти Пушкина // Правда. 1880. № 146.
Интервал:
Закладка: