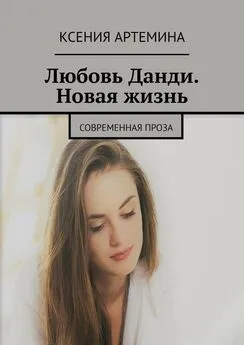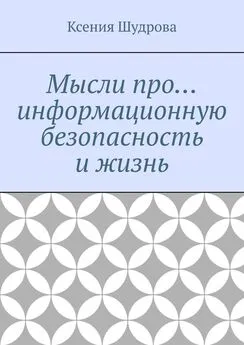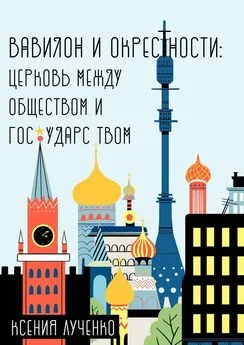Ксения Лученко - Матушки: Жены священников о жизни и о себе
- Название:Матушки: Жены священников о жизни и о себе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Никея
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91761-158-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ксения Лученко - Матушки: Жены священников о жизни и о себе краткое содержание
В этой книге собраны рассказы жен священников о своей жизни. Их называют «матушками», по аналогии с тем, как священников называют «батюшками». Как правило, семейная жизнь духовенства тщательно скрывается от постороннего взгляда. Жизненный опыт матушек – во многом опыт ежедневных жертв. Но проблемы у нас у всех общие. Как их преодолевают матушки, жены тех священников, к которым мы часто обращаемся за советом?
Матушки: Жены священников о жизни и о себе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Почему?
– Ну какой из меня педагог? Я, как выяснилось впоследствии, очень не люблю преподавать, не умею это делать и не люблю школу.
– Вы думаете, работа в школе вас бы испортила?
– Конечно. Развила бы чувство гордыни и безответственности от многодозволенности.
– И таким образом?
– Таким образом, я оказалась в Ленинградском государственном историческом архиве, который на меня произвел такое же почти впечатление, как моя «историческая родина», потому что я столкнулась с массой документов и богатейшей библиотекой. Я отработала там год и пошла штурмовать уже Ленинградский государственный университет.
– Вы на исторический поступали?
– Нет, на филфак. Я решила, пережив драму с рисованием, поступать на филфак, тем более что я хорошо пишу сочинения. Только потом поняла, что уметь читать – это не значит быть филологом.
– Вы хотели на русскую литературу?
– Да. Принципиально на русскую. И скорее всего, потому, что ничего другого не знала. Хотя очень быстро, буквально на первом курсе, поняла, что не филолог, что это абсолютно не мое.
– А что за драма с рисованием?
– Драма была обыкновенная… Я училась в очень хорошем месте, в городской художественной школе на углу улицы Ломоносова и канала Грибоедова. Там был замечательный директор Г. Антонов. Но я, видимо, была человек очень обидчивый и гордый, почему эта «трагедия» и произошла. Я жила в своем мире, и мне некому было помочь понять, что любое осознание своей бездарности в творчестве – это шаг вперед, что надо учиться и работать, что такое осознание – это движение, процесс, а не результат и жить в творчестве, да и в жизни, надо процессом. У меня все хорошо получалось с точки зрения рисунка, а еще лучше – живописи. Но у меня был совершенный ступор в композиции. И нам была задана композиция на тему сказки С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев». Я старательно писала и смывала, а ведь это же акварелью, мы же там не писали никакими другими техниками, только акварелью. Вот сижу, тружусь: костер, эти «месяцы» во всех видах сидят – ужас один, и чувствую, все какое-то «дубовое». А рядом со мной сидит такая Алена Иванова, замечательная была девочка, художник по существу. И я вижу ее работу: у нее на первом плане – не верхушек, не корней нет, просто стволы, вот как фотография, большой ствол без начала и конца, причем фактурно выписана кора, насколько акварелью эту фактуру можно определить, сосна, видимо, и как на картинах Жоржа де ла Тура, не видно источника света, а источник света – это костер на снегу. Я костер не вижу, но я вижу его свет на вот этих соснах, и больше ничего. Я тут же на всю оставшуюся жизнь поняла, что я предельно бездарна, и перестала рисовать. После этого я решила, что теперь буду филологом.
– Но ваша сестра все-таки стала художником?
– Ну, она стала художником, как она сама смеется, потому что мы ее заставили. Хотя, конечно, были годы занятий, особенно когда она попала в училище Серова, когда оно еще располагалось у Смольного, – по уровню образования, по уровню внутренней наполненности это, скорее продолжение нашей городской художественной школы. Это было замечательное место, она его окончила, но побоялась идти в Академию художеств и поступила в Высшее художественно-промышленное училище имени В. П. Мухиной («Муху»).
– Я видела работы вашей сестры. В храме, где отец Георгий настоятелем, – две иконы. Икону из Матвеева, писанную под старый оклад…
– Да, в Матвееве в 2005 году на месте старых торговых рядов стараниями местного «олигарха», который вывозит лес, был построен храмик, такой деревянный, маленький, там народу сейчас мало, поэтому он кажется достаточным. Построен он вопреки всяким архитектурным нормам, крыша уже течет, дышать в нем нечем, в общем, со своими сложностями, но храм есть.
– А разве там нет исторического храма?
– Исторические храмы я могу показать на фотографии, как они выглядят, эти старые храмы. Когда речь зашла о том, что надо освящать новый храм, мы, посидев с мамой, вспомнили одну нашу семейную историю о том, что много лет назад, когда еще дедушкина сестра была жива и бабушка моя была жива, ей приснился сон: икона «Избавительница» афонского письма, спасенная при закрытии матвеевского летнего храма, сказала бабе Мане во сне: «Отвези меня в храм». Икона хранилась у нас дома, баба Маня испугалась и прибежала к бабушке. Бабушка говорит: повезли. И они повезли эту икону в ближайший храм. На саночках зимой 10 километров – в Ильинское. И эта икона благополучно там, в Ильинском, существовала. Но когда решили освящать наш новый храм, то мы подумали, что надо бы единственную сохранившуюся из матвеевских храмовых икон вернуть. С этим мы отправились к отцу Симеону в Ильинское. На обратной стороне иконы оказался большой штамп, в котором указывалось, что эта икона была принесена в дар матвеевскому храму. Оговорено название церкви и стоит дата – 1885 год. Эта дата для меня до сих пор загадка, потому что общее почитание образа «Избавительницы» у нас в России началось в 1889 году. Ей два праздника существуют – один апрельский, греческий, другой российский – в октябре. Думаю, что, видимо, кто-то из матвеевцев был связан со старым Афоном, со Староафонским подворьем в Петербурге, или уж сам на Афоне побывал (у нас там были такие, кто и в Иерусалиме бывал, даже ветви пальмовые хранились оттуда). То есть икона сама по себе с историей. Костромской владыка эту икону вернуть благословил. Возвращение было торжественным, с крестным ходом, у меня хранятся фотографии.
– А как складывалась ваша жизнь дальше, после того, как вы окончили университет и получили специальность?
– Я училась на вечернем, продолжая работать в своем любимом Историческом архиве. Заканчивала просто потому, что на работе диплом филфака тоже признавался, но мне было там совершенно неинтересно. Знаете, у меня всегда было ощущение, что я всех обманываю: вот учусь хорошо, а мне неинтересно, вот диплом у меня университетский, а я ничего не знаю, написано в дипломе «филолог-русист», а я в действительности, наверно, даже не архивист, а старьевщик, как какой-нибудь татарин, ходивший по дворам с криком «старье берем». У меня был очень хороший научный руководитель (сейчас он уже умер). Очень интересный человек со своеобразной одинокой судьбой – Геннадий Владимирович Иванов. Мы с ним и двух слов не сказали, он был странный человек в смысле общения. Но у меня всегда было ощущение полного приятия и понимания, мне было у него очень интересно учиться и писать у него работы, он очень редко хвалил, но когда он мне сказал: «Вы можете учиться на филфаке», – это была похвала. Я не могла это всерьез воспринимать, я понимала: филолог – это что-то другое, это человек, владеющий массой гуманитарных знаний, я не говорю про языки, и вообще, из какой-то другой среды обитания… А я, какой из меня филолог?! Помню, мы поженились с отцом Георгием в тот год, когда оба заканчивали университет, 2 мая 1982 года венчались. Я в мае месяце прихожу совершенно вся в другой – новой жизни, сдаю свой диплом, мне Геннадий Владимирович говорит: надо думать об аспирантуре, а я отвечаю: не хочу в аспирантуру. Вы знаете, иной раз я жалею, что вообще существую – я полностью асоциальна. Но никогда в жизни не пожалела, что занимаюсь не своим делом. Никогда не пожалела. Я думала, что всю жизнь буду работать в любимом Историческом архиве. Это мое. Не зря у меня такая тяга к старым бумагам, документам, фотографиям, обрывкам и прочее. Это было всегда, с детства. И когда я себя обрела в архиве, я нашла свое место.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
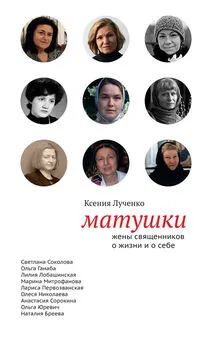
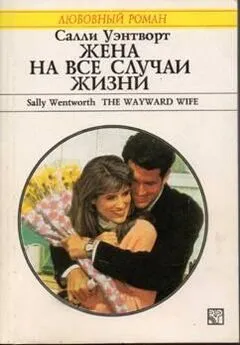
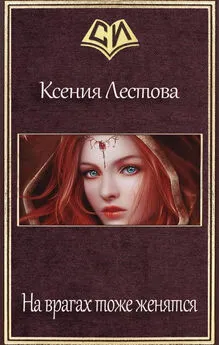
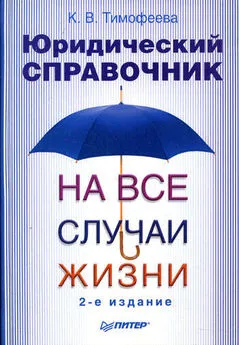
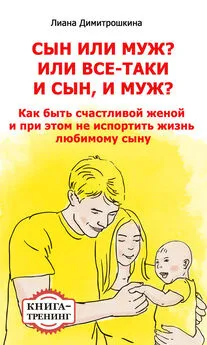
![Ксения Лестова - Без меня на мне женились [СИ]](/books/1088843/kseniya-lestova-bez-menya-na-mne-zhenilis-si.webp)