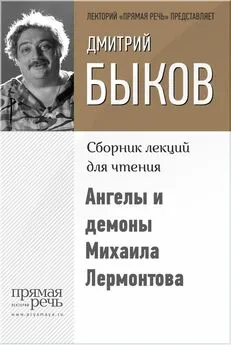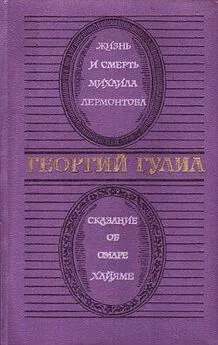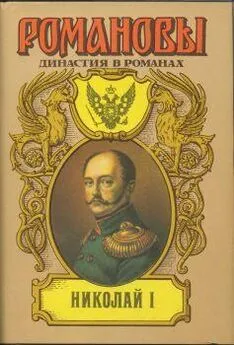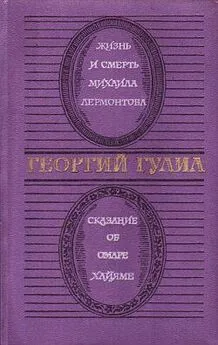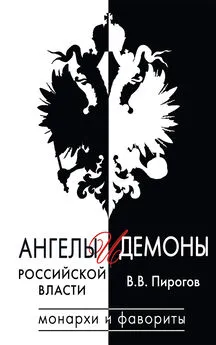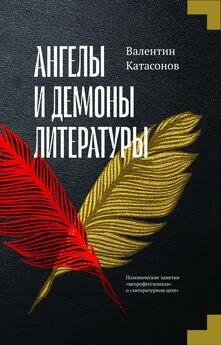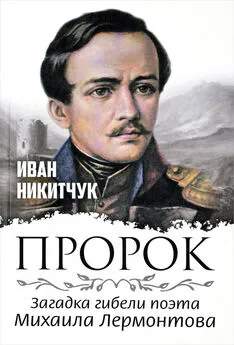Дмитрий Быков - Ангелы и демоны Михаила Лермонтова
- Название:Ангелы и демоны Михаила Лермонтова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Быков - Ангелы и демоны Михаила Лермонтова краткое содержание
Смерть Лермонтова – одна из главных загадок русской литературы. Дмитрий Быков излагает свою версию причины дуэли, объясняет самоубийственную стратегию Лермонтова и рассказывает, как ангельские звуки его поэзии сочетались с тем адом, который он всегда носил в душе.
Ангелы и демоны Михаила Лермонтова - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
К вопросу о пресловутой женской привлекательности: вот тут немножко стоит сделать крен в модель толстовского отношения к женщине – я очень люблю историю написания «Воскресения». Он писал, все шло ровно и гладко до середины, до 1895 года (так называемая «коневская» повесть, повесть со слов Кони) все шло хорошо, и вдруг оно у него застопорилось. Вы все помните этот сюжет великолепный, Нехлюдов узнал Катюшу Маслову, Нехлюдов пытается ее выцарапать из каторги, ничего не получается, тогда он идет в каторгу вместе с ней – ну, едет с большим комфортом, но сопровождает ее туда. И вот тут у Толстого застопорился сюжет. Дело доходило до таких припадков бешенства, что на невинный вопрос Софьи Андреевны, как продвигается «коневская» повесть, он взял да и грохнул сервиз, каких в Ясной Поляне, слава богу, было много, видимо, на случай дальнейших творческих застоев. Тем не менее однажды, войдя в «комнату под сводами» где-то в 1896 году, Софья Андреевна увидела Толстого ликующим, очень радостным, и он сказал: «Ты представляешь… Я все понял! Она за него не выйдет…» А по-че-му?! А потому что она полюбит другого, полюбит бедного пропагандиста, бедного марксиста, идущего в ссылку. Вот это очень точное понимание женской природы и понимание ситуации вообще. Потому что если бы Катюша Маслова вышла за Нехлюдова, полюбила бы его и стали бы они жить-поживать и добра наживать на далекой сибирской заимке, получилась бы чудовищная пошлятина, махровейшая. А получился гениальный роман, я думаю, один из лучших в конце XIX века.
Это не потому, что женская природа подлая такова, а потому, что при таком варианте вышло бы, будто Нехлюдов идет в ссылку из-за нее. А так получилось, что он идет только из-за себя, и настоящий подвиг – это тот, который никем не оценен. Я считаю, что это продолжение лермонтовской линии, потому что у Лермонтова откровенно черным по белому в «Герое нашего времени» сказано: он любит не ради «них», он любит ради себя, ради того, что ему это дает. И, в общем, страшную вещь скажу, но ТАК И НАДО!
– А можно пояснить, почему совершенно разные образы Печорина созданы в «Княгине Лиговской» и, соответственно, в «Герое нашего времени»?
– Видите, «Лиговскую» писал молодой человек для шутки, в соавторстве с приятелем Раевским, насколько я помню. Писал без какой-либо надежды на публикацию, без каких-либо видов на серьезный текст. Это еще раннее, такая абсолютно петербургская история, с маленьким человеком, сюда же затесавшимся. Печорин здесь романтический персонаж. Печорин «Героя…» – это страшный, трагический, верный, к сожалению, автопортрет. И не случайно Печорин в «Герое…» обретает все лермонтовские черты: глаза, которые никогда не смеются, гибкость всего стана, вот эти маленькие руки, позу бальзаковской тридцатилетней кокетки и силу, которую он тем не менее выдает.
То, что он любил в своем облике – широкие плечи при маленьких руках, выносливость, храбрость, устойчивость при отсутствии бытовой приспособленности – вот это признак аристократизма. Ранний Печорин – романтический герой, поздний Печорин – автопортрет. Только так я и могу это объяснить, но, строго говоря, такова была эволюция всякого крупного писателя. Всю жизнь выдумываешь героя, а под конец начинаешь писать о себе, потому что уже не боишься. Может быть, именно поэтому Левин еще недостаточно похож на Толстого, а Нехлюдов уже очень похож. И в нем внутренне больше толстовского, он отдал ему больше своих колебаний, своей робости, не побоялся признаться в собственной порочности. Левин ведь чист невероятно, а Нехлюдов не чист. И по этой же логике, наверное, и протагонисты Достоевского так сильно меняются, потому что он появляется перед нами, например, в «Бесах» в образе мудрого старца Тихона, который все про всех понимает. А в «Братьях Карамазовых» это сквозной собирательный образ, собранный из четырех братьев, где большинство составляют очень неприятные персонажи. Так что чем дальше в лес, тем честнее. Виктор Шкловский однажды сказал Лидии Гинзбург: «Бог даст, Вы доживете до глубокой старости, разозлитесь и напишете, наконец, о людях то, что думаете о них действительно».
– Почему он тогда взял то же самое имя, того же героя?
– Имя как раз очень удачно придумано, потому что совершенно очевидна его преемственная связь с Онегиным. Но просто Печорин от Онегина бесконечно дальше. Печорин в «Княгине Лиговской» – это светский молодой человек, Печорин «Героя нашего времени» – это «печальный демон, дух изгнанья». А фамилия придумана ловко, я думаю, что он и дальше бы писал про этого героя.
– Вы сравнили времена, когда писал Лермонтов, с нынешними. Скажите, есть ли сейчас, с вашей точки зрения, поэт, сравнимый по масштабам с Лермонтовым?
– Нет. Хочу сделать очень серьезную поправку. В свете своей типологической теории циклической, которая всем уже надоела, но мне еще нет, я вижу абсолютно лермонтовскую фигуру в русском Серебряном веке, фигуру совершенно очевидную – это Гумилев. Более того, его «Миг» – это абсолютная калька с «Мцыри», сознательная, поздняя лирика, предсмертная лирика 1921 года – это, конечно, отзвук гениальной предсмертной лирики Лермонтова. Эти люди перед смертью пережили какое-то мистическое откровение. Более того, и Печорин, и Лермонтов всю жизнь мечтали о путешествиях. Печорин говорил, что если могу – поеду путешествовать в Америку, в Африку, только, боже упаси, не в Европу. Поэтому, собственно, Гумилев в Европу-то ездил очень мало, а в Африку дважды и очень успешно.
В Серебряном веке я такую фигуру типологически вижу, а сейчас почему-то у нее не получилось осуществиться: то ли гнет недостаточен, то ли, что более вероятно, военная служба очень сильно стала разлагаться. Уже и Гумилеву она казалась идиотской, а Гумилев-то все-таки вольноопределяющийся, два солдатских Креста, Два Георгия получил и к третьему был представлен. А вот что касается Лермонтова, то он мог зародиться, видимо, только в гвардии или в Нижегородском полку армейском, куда он был отставлен, значит, отправлен за «Смерть поэта».
Предположить, что сегодня в каком-либо полку зародился поэт, довольно сложно, видимо, как-то армия деградировала, а гражданская жизнь таких возможностей не предполагает. Надо подумать. Вообще, вы меня натолкнули на интересную задачу, потому что, может быть, он выйдет не из военной, а из кавказской среды… такой пограничной… Потому что уж что-что, но одно в нашей реальности абсолютно не изменилось – « по камням струится Терек,// плещет мутный вал,// Злой чечен ползет на берег,// точит свой кинжал.// Но отец твой – храбрый воин,// закален в бою, //Спи, малютка, будь спокоен, //Баюшки-баю»». Очень может быть, что такая фигура где-то там вызревает, но пока просто не заявила о себе.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: