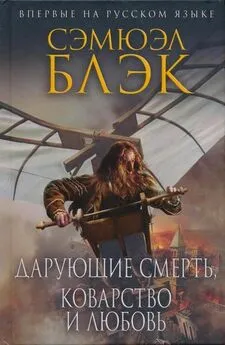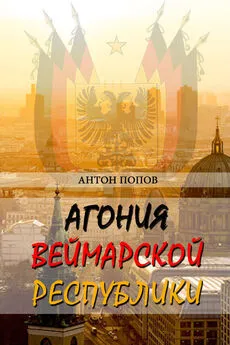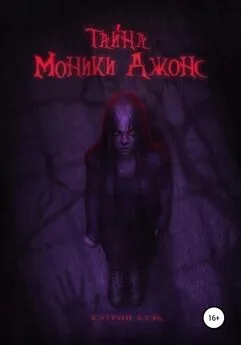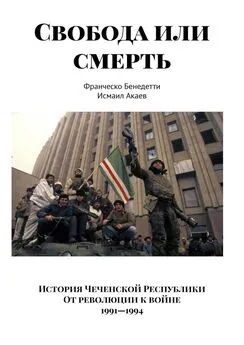Моника Блэк - Смерть в Берлине. От Веймарской республики до разделенной Германии
- Название:Смерть в Берлине. От Веймарской республики до разделенной Германии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0387-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Моника Блэк - Смерть в Берлине. От Веймарской республики до разделенной Германии краткое содержание
Книга американского историка Моники Блэк посвящена берлинской «культуре смерти» – связанным со смертью представлениям и практикам, а также тому, что происходило с ними в конце 1920-х – начале 1960-х годов. Менялись ли взгляды немцев на смерть в годы Первой и Второй мировых войн, в послевоенные периоды, во время разделения страны на западную и восточную части? Влияли ли эти взгляды на политику Германии или же сами определялись ею? Материалом для исследования драматического столкновения частной повседневности с «большой» историей служат ритуалы погребения и поминания умерших, народные поверья и городские легенды, дневники и письма, публикации в прессе и официальные документы из немецких архивов.
Смерть в Берлине. От Веймарской республики до разделенной Германии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Майкл Гейер трактует всю культуру Веймарской эпохи как проникнутую надеждой, что мертвые на самом деле не умерли, а каким-то образом продолжают жить. Эта надежда – не то же самое, что французская идея о «раненом, но выжившем солдате, которому являются мертвые». Вместо этого, пишет он, все немцы – от «ультраконсервативного председателя верхней палаты графа Дитлофа фон Арним-Бойценбурга» до таких либералов, как еврей – министр иностранных дел Вальтер Ратенау и президент Эберт, были одинаково увлечены идеей живых мертвецов, которая проникла также в популярную культуру, например в фильмы Ф.В. Мурнау («Носферату», 1922) и Фрица Ланга («Метрополис», 1927). «Коротко говоря, – пишет Гейер, – травматическая культура ходячих мертвецов возникает из мейнстрима германской политики и культуры» 227. Эти представления идут вразрез с политическими контурами. Погибшие на войне служили, вероятно, наиболее электризующим символом в политическом репертуаре национал-социалистов и правых-реваншистов, но отнюдь не были их собственностью. Членами Народного союза, одного из главных защитников памяти жертв войны, являлись и Пауль фон Нинденбург, и Ратенау 228.
Кольвиц, непоколебимая либеральная защитница республики, была одной из многих, кто чувствовал связь – здесь и сейчас – с мертвым сыном:
<���…> вообще-то я часто могу ощущать присутствие Петера. Он утешает меня, он помогает мне в работе. <���…> Я знаю, когда он одобряет или осуждает, радуется или грустит. Мое осознание его когда сильнее, когда слабее. <���…> [Возможно,] все это умственный жест. Но я могу выяснить, когда это правда. Я не имею в виду присутствие мертвого в фигуральном, интеллектуальном смысле. Я говорю о возможности установить связь здесь, в этой чувственной жизни, между физически живым человеком и существованием того, кто физически мертв. Мне все равно, называется ли это теософией, спиритизмом или мистицизмом.
Кольвиц верила, что Петер посылает ей знаки; посещая то место, где должен был стоять его памятник, она нашла тот же цветок – гвоздику, – который вручила сыну, когда он уходил на войну 229. Позже ее внук, маленький Петер (сын ее старшего сына Ганса), тоже дал ей гвоздику 230.
Кое-кто из ученых высказывал мысль, что постоянное обращение к погибшим на войне в Веймарскую эпоху привело к «фиксации», нарушавшей «нормальное действие скорби». Из-за этой фиксации немцы не научились отделять себя от погибших близких, что привело к «частичному дефициту реального», при котором люди ожидали возвращения мертвых в любой момент. «Их смерть отрицалась, их воскресение, возвращение, невидимое присутствие – воображались» 231. Однако после небывалых потерь в Первую мировую трудно сказать, что представляла бы собой нормальная скорбь в любом пережившем войну обществе. Для многих людей, не только в Германии, но и в Англии и Франции, нормальная скорбь означала проведение спиритических сеансов и посещение медиумов 232. Война не только сделала смерть «переживанием повседневной жизни» 233, но и раскрыла огромную темную пропасть непонимания, для прояснения которой рационалистических и естественнонаучных объяснений было, увы, недостаточно. Уже по этой причине исследователи более поздних периодов истории Германии и Европы должны быть столь же внимательны, как и те, кто работают с ранними периодами, к таким аспектам коллективного воображения, как миф, молва, сверхъестественное и фантастическое 234.
В конце 1920-х – начале 1930-х гг. фольклористы свидетельствовали, что от 10 до 29 процентов жителей Берлина и его окрестностей верили в возможность возвращения мертвых 235. Это далеко от сути дела, но все-таки заслуживает внимания как часть общего круга вопросов, которым обычно уделяли внимание исследователи недавней германской истории. Герберт Дервайн отметил случай, произошедший в 1913 г. в Западной Пруссии: умершая женщина – так считалось – возвращалась, чтобы «собрать» родных – девятеро из них ушли из жизни вскоре после ее смерти; ее выкопали и обезглавили 236. В 1921 г. Ганс Науман сообщал в исследовании «примитивной социальной культуры», что незадолго до того в Йене похоронили труп бродяги со связанными руками и ногами – чтобы «раз и навсегда прекратить его бродяжничество». По словам Наумана, такие случаи «можно, наверное, перечислять бесконечно» 237. Профессор истории религии Карл Клемен в исследовании 1920 г., посвященном теме загробной жизни в культурах по всему миру, писал, что опыт Первой мировой войны, по его мнению, сделал вопрос о жизни после смерти особенно насущным: «…Мы не можем не спрашивать: были ли жизни жертв войны только возложены на алтарь отечества или каждая имела свою, внутреннюю ценность? А если да, то действительно ли со смертью все кончается – или продолжается?» 238
Между тем была одна партия, которая не только лучше других понимала глубину скорби немцев по погибшим в войну, но и смогла создать вокруг этих смертей священную и магическую ауру, которой так жаждали многие современники. Все, на что были способны левые, – приписывать миллионы смертей махинациям политиков и крупного бизнеса и заявлять, что массовая гибель оказалась бессмысленной 239. А вот Адольф Гитлер, назначивший себя главным заступником погибших на войне, не переставал упоминать о величии их жертвы и всегда претендовал на то, чтобы выступать в их интересах 240. Во многом нацистская мистика расцвела из обещания, что дружное племя воинов сможет восторжествовать над пресной рутиной жизни и смерти 241и превратить миллионы забытых и жалких трупов в славных предков господствующей расы. Германское величие, военная мощь, возвращение утраченных территорий, конец политики, более глубокомысленная коллективная жизнь – все это должно было компенсировать смерти Первой мировой и наделить смыслом массовое убийство миллионов молодых людей. По крайней мере в этом отношении нацизм представлял собой движение, вдохновленное и руководимое желанием искупить смерть. Соответственно, как я подробнее покажу в следующей главе, немецкая культура при нацизме была пронизана образами смерти и повседневными наставлениями о почитании мертвых.
Более того, мученики нацистского движения изображались принесенными в жертву священной немецкой идее и мстителями за погибших на войне – «преданных неблагодарной и трусливой республикой» 242. Так, когда Йозеф Геббельс организовывал похороны Хорста Весселя, члена СА, убитого коммунистами в 1930 г., он прибег к высокому театральному стилю. Это оказалось непросто: пока процессия шла от дома Весселя к Николаевскому кладбищу, находившемуся в берлинском районе Митте, группа людей попыталась сорвать флаг со свастикой с гроба в качестве трофея. Приближаясь к кладбищу, участники церемонии столкнулись с еще одним поруганием – оставленной ночью надписью на стене, гласившей, что Вессель был сутенером. Оскорбления не закончились и тогда, когда похоронная процессия достигла кладбища: погребение происходило под градом камней, которые почти без остановки швыряли протестующие из КПГ 243. Но, несомненно, благодаря этим атакам процедура получила некое самооправдание, и ее цель приобрела эмоциональную силу. В своем надгробном слове Геббельс назвал Весселя «бессмертным <���…> солдатом германской революции <���…> всегда готовым пожертвовать жизнью». И добавил, что ему видится, как «маршируют колонны, бесконечные, бесконечные. Униженный народ поднимается и начинает движение» 244. Нескончаемая армия мертвецов заполонила землю.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: