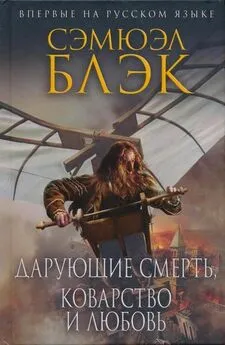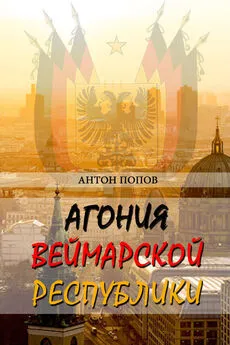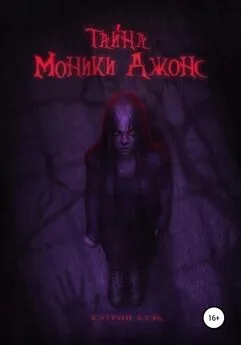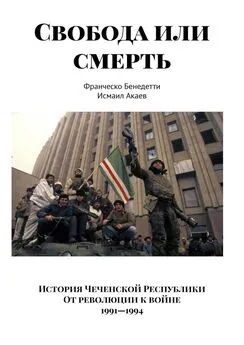Моника Блэк - Смерть в Берлине. От Веймарской республики до разделенной Германии
- Название:Смерть в Берлине. От Веймарской республики до разделенной Германии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0387-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Моника Блэк - Смерть в Берлине. От Веймарской республики до разделенной Германии краткое содержание
Книга американского историка Моники Блэк посвящена берлинской «культуре смерти» – связанным со смертью представлениям и практикам, а также тому, что происходило с ними в конце 1920-х – начале 1960-х годов. Менялись ли взгляды немцев на смерть в годы Первой и Второй мировых войн, в послевоенные периоды, во время разделения страны на западную и восточную части? Влияли ли эти взгляды на политику Германии или же сами определялись ею? Материалом для исследования драматического столкновения частной повседневности с «большой» историей служат ритуалы погребения и поминания умерших, народные поверья и городские легенды, дневники и письма, публикации в прессе и официальные документы из немецких архивов.
Смерть в Берлине. От Веймарской республики до разделенной Германии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Случай Бетти предостерегает нас от выделения личных нарративов и частных воспоминаний из общей дискурсивной среды, в которой они формировались. Истории, которые берлинцы вроде Бетти создавали, чтобы объяснять не постигаемое иным образом отсутствие пропавших близких, были, очевидно, сформированы современными политическими дискуссиями и идеологическими категориями текущего момента: Бетти засомневалась в правдивости письма, полученного от командира Эриха, только после окончания войны, и тогда же принялась превращать мужа в участника Сопротивления, дезертира, героя. В этом смысле рассказывание «военных историй» о своих утратах, муках и положении жертвы было для немцев не просто способом избежать коллективной ответственности за преступления нацистского времени. Так они начали создавать новые идентичности после катастрофической войны и разгрома. И это лишь некоторые варианты применения фантазий по поводу покойников после 1945 г.
Не менее интересен случай Эдиты Эрдман из Штеглица. В конце 1945 г. ей сообщили, что ее муж похоронен в одной из нескольких общих могил на территории бывшего приюта для слепых в городке Кёнигс-Вустерхаузен, в СЗО, к югу от Берлина. Она обратилась к мэру города:
25 октября 1945 г. я получила <���…> известие о том, что мой муж Бенно Эрдман предположительно погиб в конце апреля. <���…> [Узнав об этом,] я подумала, [что это невозможно,] что я бы почувствовала, если бы что-то случилось с мужем, и поэтому решила, что известие ошибочно, что, видимо, произошла путаница, что, быть может, под именем моего мужа там похоронен совсем другой человек, а сам Бенно в русском лагере для военнопленных. <���…> В начале ноября я заполнила розыскную анкету Красного Креста. <���…> [Одна из сестер] тоже подумала, что в хаосе последних недель войны это не было невозможным [то есть что произошла ошибка]. <���…> Можете ли вы мне помочь? За прошедшие полгода я <���…> пришла к пониманию, что тысячи и тысячи умерли от потери крови в последний момент ради этого безумия, почему бы и не мой муж тоже, отец моего трехлетнего сына? И все же и теперь у меня вновь и вновь возникает сильное чувство, что он жив и думает о нас. Действительно ли <���…> солдат с таким же именем, как у моего мужа, похоронен [там, где мне сказали]? 579
Эрдман верила, что у нее есть с мужем метафизическая связь, благодаря которой она почувствовала бы, если бы с ним что-то случилось. Значит, он должен быть жив, его удерживают и не дают сообщить о себе. Schweigelager , или «лагерь безмолвных», в глубине России, где заключенным не позволяют общаться с внешним миром, – важная послевоенная фантазия: она давала надежду, что люди, считающиеся умершими, на самом деле живы 580. О силе этой фантазии свидетельствуют многие послевоенные источники, а также попытки как восточно-, так и западногерманских властей с ней бороться 581. Столь же устойчивые слухи ходили в Берлине спустя годы после войны о погибших, все еще погребенных под теми или другими руинами 582. Несмотря на некоторые насмешки по поводу этих слухов в прессе 583, их существование было, несомненно, признаком надежды на то, что судьба пропавшего родственника может в конце концов проясниться.
В случае Эдиты Эрдман фантазия о лагере безмолвных уступила в конечном счете страху, что, если он действительно погиб, идентичность Бенно потонет в военном «хаосе» – пучине массовой смерти и общих могил. Эрдман писала, что через шесть месяцев после окончания войны «она пришла к пониманию» – то есть узнала, – что «тысячи <���…> умерли от потери крови ради этого безумия». Таким образом, в своем письме Эрдман одновременно и указывает на появляющиеся объяснения массовой смерти и войны, и заглушает отсылки к «массовой судьбе», сопротивляется им, настаивая, что Бенно, возможно, все еще жив.
Истории Эдиты Эрдман и Бетти Гизе показывают, что загадочность, окутывающая столь многочисленные отдельные исчезновения, и страхи, связанные с массовой смертью, каким-то образом были связаны со страхом перед потерей персональной идентичности. Существовало устойчивое опасение, что умершие канут в пустоту анонимности и навсегда исчезнут, что их судьбы не удастся выяснить, что их трупы пребывают в забвении, безликие, под открытым небом в степях России или пустынях Северной Африки. Это опасение, вероятнее всего, усугублялось утратой общепонятного способа осмысления войны и связанных с нею смертей, ужасающими образами из лагерей смерти и общим политическим контекстом иностранной оккупации, а вместе с ней – и утраты Германией суверенности. Попытки берлинцев создавать нарративы о смерти или о продолжающейся жизни их пропавших близких показывают: индивиды интериоризировали общие политические факторы, что привело к чувству личной уязвимости и экзистенциальной неуверенности. В этом смысле нарративы, которые берлинцы изобретали для объяснения никак иначе не постигаемых смертей, не только давали их умершим близким возможность жить дальше, но и позволяли им самим сопротивляться ужасу и бесчестью, связанным с «массовой» смертью, угрожавшей идентичности путем стирания отдельных жизней.
Неудивительно поэтому, что страх анонимной смерти мог отступить, если удавалось выяснить совсем, казалось бы, мелкие подробности об отдельной жизни и смерти. Семьи похороненных на месте приюта для незрячих в Кёнигс-Вустерхаузене, который был превращен в советский военный госпиталь (там похоронили и мужа Эрдман), писали десятки писем мэру, задавая конкретные и подробные вопросы. От каких ран страдал близкий человек? Куда он был ранен? Мучился ли он в момент смерти? Как прошли его «последние часы» или «последние недели»? В какой точно день его доставили в госпиталь? Были ли рядом с ним товарищи? Лежали ли они тоже в госпитале? Живы ли они еще, и если да, то как можно связаться с ними, чтобы узнать больше? 584Составляя отдельные нарративы о смерти, иначе не постигаемой, берлинцы защищали своих умерших близких – а возможно, и самих себя – от анонимности, ужаса и даже стыда «массового» опыта.
Рудольф Кюнель, чей «сын и единственный ребенок» умер и был похоронен в Берлине во время войны, в 1947 г. написал ряд страшных писем в Deutsche Dienststelle :
Могу ли я сердечно просить вас, если это только возможно, сказать мне, умер ли мой сын при бомбардировке или же был застрелен в упор или с расстояния, какие ранения он получил и есть ли у него товарищи, которые остались в живых, и какие у них адреса? Похоронен ли мой сын на новом кладбище [рядом с Берлинским зоопарком] или же там, где умер, и где это было? Покоится ли мой сын в отдельной или общей могиле и написаны ли имена павших на могиле? Какой адрес у смотрителя кладбища? <���…> Сохранились ли у вас документы, часы, кольцо, и могу ли я получить их? 585
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: