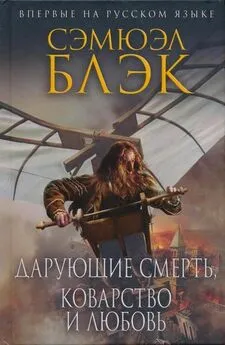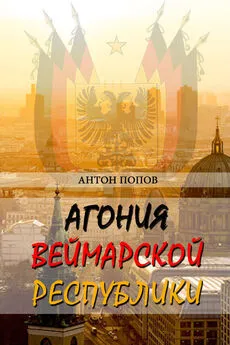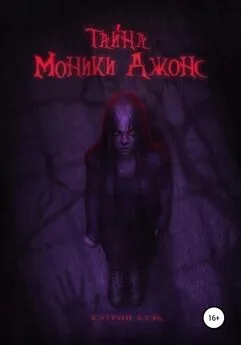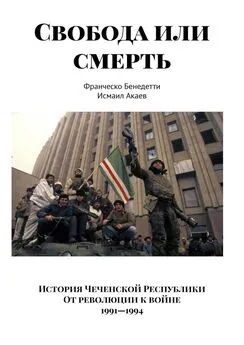Моника Блэк - Смерть в Берлине. От Веймарской республики до разделенной Германии
- Название:Смерть в Берлине. От Веймарской республики до разделенной Германии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0387-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Моника Блэк - Смерть в Берлине. От Веймарской республики до разделенной Германии краткое содержание
Книга американского историка Моники Блэк посвящена берлинской «культуре смерти» – связанным со смертью представлениям и практикам, а также тому, что происходило с ними в конце 1920-х – начале 1960-х годов. Менялись ли взгляды немцев на смерть в годы Первой и Второй мировых войн, в послевоенные периоды, во время разделения страны на западную и восточную части? Влияли ли эти взгляды на политику Германии или же сами определялись ею? Материалом для исследования драматического столкновения частной повседневности с «большой» историей служат ритуалы погребения и поминания умерших, народные поверья и городские легенды, дневники и письма, публикации в прессе и официальные документы из немецких архивов.
Смерть в Берлине. От Веймарской республики до разделенной Германии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Наконец, еще в одной петиции к городским властям содержался совет не выкапывать и не перезахоранивать мертвых с Маттеусского кладбища, а «выровнять» их могилы 617. Поскольку отдельные могилы обычно имели вид небольшого холма, идея «выровнять» означала «спрятать». Это была попытка замаскировать могилы и превратить их в частное, возможно даже тайное место раздумий для семей похороненных. Возможно, отчасти это предложение было признанием того, что могилы 1945 г. оказались к 1949 г. неуместными в городе и обществе, изо всех сил старающихся восстановиться после двойной катастрофы – нацизма и войны. «Новый Берлин» и весь мир продолжали жить дальше. В течение месяцев, пока шли споры вокруг маттеусских могил, будут формально учреждены два послевоенных германских государства и разделение Берлина – на политическом уровне – завершится. Однако смерть на войне и общий репрезентируемый ею опыт образовали память, которая преодолевала все более поляризующуюся атмосферу недоверия и отчуждения между востоком и западом. По этой и по другим причинам могилы военного времени останутся для берлинцев важным lieu de mémoire [ фр . местом памяти], и споры об эксгумации погибших в войну солдат и гражданских лиц (и вообще об обращении с ними) продолжатся в обоих послевоенных Берлинах в последующие годы 618. После 1949 г. эти дебаты будут формироваться в кардинально разных политических и идеологических контекстах. Однако ту тесную связь, которую в конце 1940-х – 1950-х гг. берлинцы поддерживали с умершими близкими, политика и идеология хотя и трансформируют, но так и не смогут полностью упразднить.
5. СМЕРТЬ ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ
7октября 1949 г. возникла новая Германия – Германская Демократическая Республика с ее «новой» столицей Восточным Берлином. Для архитекторов ГДР в правящей партии – СЕПГ – конструирование идентичности как государства, так и его столицы во многом будет состоять в отмежевании в любых сколько-нибудь значимых аспектах от курса их предшественников – фашистов. Вдохновленные революционным примером Советского Союза, восточногерманские коммунисты были полны решимости найти новый, нравственный выход из этической трясины, оставленной после себя нацистским режимом. В попытке насадить тотализирующую веру в марксизм-ленинизм, руководители нового государства в период его становления занимались многочисленными проектами, направленными на то, чтобы отметить печатью социализма все аспекты жизни в ГДР. Неудивительно поэтому, что среди их утопических устремлений обнаруживаются также попытки переосмыслить самые глубокие вопросы бытия, включая смысл смерти. Как мы уже видели, советская власть и ее немецкие союзники-коммунисты фактически положили начало этому процессу сразу после 8 мая 1945 г., заявляя, что строительство социалистического общества на руинах нацизма и после военного поражения придаст смысл смертям военных лет.
Эти попытки усилились в начале 1950-х гг., когда реформаторы начали обсуждать, как трансформировать в Восточном Берлине и вообще в Восточной Германии экономику, практики и ценности, касающиеся смерти. Правда, в сохранившихся документах почти нет свидетельств той непримиримости, которую государство нередко демонстрировало при осуществлении других планов, ассоциирующихся у нас с однопартийным правлением СЕПГ. Почти до самого конца этого десятилетия чиновники Восточного Берлина вели себя сдержанно и даже скрытно во всем, что касалось трансформации смерти в столице. Основные их усилия сосредоточились на совсем не радикальной цели: обеспечить общественности недорогие похороны в качестве преимущества государственного социализма. Это интересно по двум причинам. Во-первых, мы склонны представлять себе 1950-е гг. в Восточной Германии как время резких и глубоких перемен, связанных с земельной и школьной реформами, конфронтацией с церквями, введением Jugendweihe (светской церемонии в честь вступления восточногерманской молодежи во взрослую жизнь) и др. 619. Но, во-вторых, Восточная Германия в конце концов действительно разработала уникальный взгляд на завершение жизни. Постепенно она создаст собственные погребальную архитектуру, способ планирования кладбища и похоронную культуру. У нее будет свой глубоко рационалистический дискурс о смерти и свой набор ритуалов предания покойных земле. Поэтому те немногочисленные ученые, которые рассматривали культуру смерти в ГДР, уделяли 1950-м гг. сравнительно мало внимания 620.
Почему же в то десятилетие восточноберлинские чиновники и СЕПГ были не очень решительно настроены на трансформацию смерти? Возможно, их отвлекали более фундаментальные задачи первых лет существования ГДР – задачи выживания государства и его жителей, – и это делало его активистов менее воинствующими сторонниками социалистического способа смерти. Но интересно также, могла ли их сдержанность возникнуть, пусть даже невольно, в результате недавнего опыта массовой смерти, многочисленные признаки которой, как мы вскоре увидим, оставались у всех на виду – в виде заброшенных могил и все еще не захороненных останков. Кроме того, в 1950-х гг. берлинцы по-прежнему мечтали о возвращении «пропавших» родственников, а еще больше было таких, кто оплакивал тех своих близких, о ком стало известно, что они не вернутся никогда. Возможно, поэтому попытки трансформировать отношение к смерти в Восточной Германии были крайне осторожными; чиновники как будто опасались слишком сильно давить на чувства населения, все еще страдающего от понесенных утрат.
В 1949 г. разложившиеся останки и белеющие кости десятков тысяч погибших в войну все еще лежали или не погребенными, или в наспех вырытых могилах – в лесах и полях, возле госпиталей, в парках и садах по всему Восточному Берлину и в его окрестностях. Попытки найти разбросанные здесь и там военные могилы и экстренные кладбища, чтобы перезахоронить «ненормально» похороненных жертв войны, были в основном случайными и не доводились до конца, даже спустя годы после войны. Это было обусловлено несколькими факторами. Пожалуй, главным фактором выступали логистические проблемы, естественным образом возникающие при любой попытке найти, выкопать, опознать и перезахоронить содержимое рассеянных по городу могил. А кроме того, память о погибших в войну немцах нелегко встраивались в реальность поствоенного, постфашистского Восточного Берлина, где прославлялись Красная армия, герои-антифашисты и наступление социализма 621. Хотя военнопленные были быстро реинтегрированы в общество как «пионеры новой Германии» и выступали коммунистического государства в деле демократизации 622, современные документы обнаруживают устойчивую тенденцию конца 1940-х – 1950-х гг. рассматривать погибших на войне немецких солдат как представителей «фашистской армии» 623. К тому же погибшие в войну были также отцами и сыновьями немцев – не только на востоке, но и на западе. Члены СЕПГ в правительстве отдавали себе в этом отчет не хуже других. Жители как Восточной, так и Западной Германии часто интересовались, обычно через своих пасторов, что происходит с военными могилами в ГДР. В сущности, даже после формального разделения мертвые продолжали связывать две Германии и два Берлина. Поэтому решение вопроса о военных могилах в ГДР составляло не просто логистическую и идеологическую задачу; за этим вопросом следовали вопросы легитимности и суверенитета зарождающегося государства, одной из главных забот которого в первые годы его существования стало максимальное дистанцирование от запада.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: