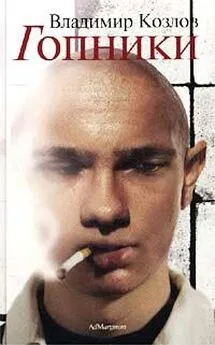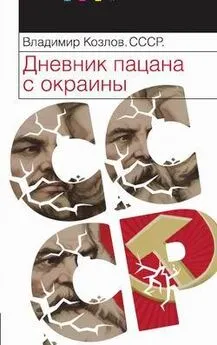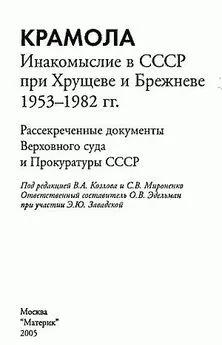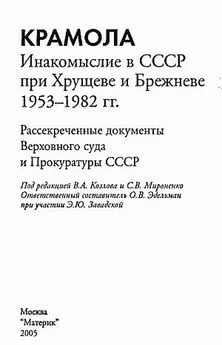Владимир Козлов - Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе
- Название:Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:РОССПЭН
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8243-1205-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Козлов - Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе краткое содержание
Книга известного российского историка В. А. Козлова посвящена противостоянию народа и власти в эпоху «либерального коммунизма». Автор рассматривает типологию и формы массовых насильственных действий, мотивы, программы и стереотипы поведения конфликтных групп, политические и полицейские практики предотвращения или подавления массовых беспорядков. Реконструкция и анализ событий 1950-х — начала 1980-х гг. опирается на огромный массив вновь привлеченных архивных источников.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.
Издание третье, исправленное и дополненное
Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вдобавок ко всему в конце 1970-х гг. страну охватила эпидемия повального пьянства. По сравнению с 1960 г. потребление алкоголя выросло в два раза. На учете состояло два миллиона алкоголиков. В 1978 г. в органы милиции было доставлено около 9 миллионов пьяных, свыше 6 миллионов попали в вытрезвитель 1.
Удручающая статистика преступности, пьянства, хулиганства обещала новую волну бунтов и волнений. Спровоцировать ее могли как попытки наведения порядка полицейскими способами, так и очевидные для потенциальных бунтовщиков признаки слабости режима. После смерти Брежнева и еще до прихода к власти Горбачева кривая негативной «пассионарности» (выражение Л. Гумилева) советского общества поползла вверх — после двух довольно спокойных лет во второй половине 1984-начале 1985 г., фактически за полгода, произошло два крупных волнения, одно из них на этнической почве в столице
Таджикистана Душанбе. Во второй половине 1985 года вновь фиксируются давно забытые беспорядки в воинских эшелонах с призывниками в Советскую армию. Вопрос специально рассмотривался на заседании Секретариата ЦК КПСС [765] РГАНИ. Ф.89. Перечень 11. Д.138. Л.1.
.
Реально или потенциально конфликтные периоды как бы обрамляют время пребывания Брежнева у власти, косвенно свидетельствуя о социальной нежизнеспособности «застоя» как формы правления и образа жизни. Страна вступала в новую эпоху, уже сидя на бочке с порохом с зажженным фитилем. Неудовлетворенные национальные амбиции и старые этнические обиды, миллионы обиженных пьяниц, проводящих ночи в вытрезвителе или 15 суток по арестом, огромное количество ежегодно попадавшихся на мелких хищениях людей и еще больше — оставшихся безнаказанными, молодежь, выросшая в пьющих семьях — все это было не самым лучшим строительным материалом для объявленной Горбачевым перестройки. Страна зашла в тупик. Общество разлагалось. Но в поисках выхода маргинализированное массовое сознание оказалось таким же плохим помощником Горбачеву, как и «номенклатурный капитализм» коррумпированных брежневских чиновников.
Заключение
Мой американский друг, в свое время прочитавший эту книгу в рукописи, был поражен жестокостью и непонятностью описанных в ней событий. Он грустно заметил: «Несчастен народ, у которого такое правительство, и несчастно правительство, вынужденное править таким народом». За этой иронической репликой скрывается давняя интеллектуальная традиция. Многовековой «раскол» между народом и властью, между простонародьем и образованной элитой часто воспринимается Западом как «sonditio sine qua non» российской истории. Придание универсального смысла устаревшему религиозному понятию на самом деле является героической попыткой интеллектуалов более или менее адекватно описать чуждые современному обществу и весьма специфичные формы взаимоотношений народа и власти.
Упоминая в некоторых главах этой книги о традиционном для России «симбиозе» народа и власти, я вдохновлялся тем же стремлением — найти «правильное слово»! «Раскол» звучит для русского уха слишком жестко и категорично, заложенный в нем смысл предполагает чуть ли не бездонную пропасть, через которую никто не может перейти. Между тем исследование насильственных конфликтов между населением и властью после смерти Сталина показало, что в большинстве случаев речь следует вести не столько о «расколе», сколько о специфической форме сожительства. Сами массовые беспорядки, по своим внешним признакам бесспорно являвшиеся прямым выступлением против власти или ее представителей, как правило, не отрицали существующей системы взаимоотношений. Они были скорее извращенной формой «обратной связи» коммунистического режима с народом, иррациональным способом передачи сигналов о неблагополучии. В большинстве случаев подобное «взаимодействие через конфронтацию» точнее называть не «расколом», а «социальным симбиозом». Ведь «симбиоз» как раз и означает сожительство двух организмов разных видов. Даже будучи выгодным обеим сторонам, «симбиоз» никогда не делает их одним существом, в нашем случае, единым обществом с едиными целями и ценностями.
Характерный для традиционных обществ "патриархальный патернализм" (выражение М. Вебера) во взаимоотношениях народа и власти трансформировался в послереволюционную эпоху в одну из фундаментальных основ советского «государственного социализма». «Верховный арбитр» и «Отец народов» на вершине власти, «атомизированная» масса «рабочего класса, колхозного крестьянства и народной интеллигенции» внизу, многочисленная чиновничье-бюрократическая и номенклатурная «прокладка» между «Отцом» и народом. Специфические интересы государственной бюрократии, с одной стороны, предохраняли это социальное «триединство» от разрушительных колебаний, а с другой — не давали обществу эффективно и гармонично развиваться. После смерти Сталина, личность которого была одним из системообразующих элементов советской патерналистской и авторитарнобюрократической системы, полупатриархальная организации общества и власти, действительную сущность которой маскировала социалистическая риторика, дала первые трещины. На смену мессианской социалистической романтике и аскетизму раннего советского общества приходят принципиально новые явления. Под аккомпанемент социальной зависти, отлитой в массовые требования справедливости, под обвинения «начальников» в «дачном капитализме» и незаслуженных привилегиях в обществе, с одной стороны, возрождались традиции стихийных бунтов против «неправедной власти», а с другой, шло подспудное развитие индивидуализма и экономического эгоизма, сковывавших бунтарскую активность масс. Подобное сочетание традиционного и современного в массовом сознании, накладываясь на отсутствие политических и экономических свобод, неизбежно придавало всем формам народного протеста (от массовых мелких хищений у «своего» государства до стихийных выступлений против местных властей) уродливую форму. Бюрократия ответила на вызов времени попытками «подкупа» народа, идеологией застойной "стабильности", коррупцией, круговой порукой и разрушением института «верховного арбитра». «Вождь» из более или менее эффективного инструмента власти постепенно превратился в удобный и почитаемый символ. Потенциальным участникам массовых волнений и беспорядков, разочарованным к тому же в великой коммунистической мечте, бунтовать, обращаясь к такому «арбитру», было уже бессмысленно и нелепо.
Массовые беспорядки эпохи «либерального коммунизма», по своим внешним признакам бесспорно являлись прямым выступлением против власти или ее представителей, но, как правило, не отрицали существующего политического режима и патерналистских взаимоотношений между народом и властью. Они представляли собой скорее извращенную форму «обратной связи» правящей верхушки с народом, иррациональный и неэффективный способ передачи сигналов о социальном или этническом конфликте «наверх». В большинстве случаев подобное «взаимодействие через конфронтацию» можно рассматривать как «социальный симбиоз». Ведь «симбиоз» как раз и означает сожительство двух организмов разных видов. Даже будучи выгодным обеим сторонам, «симбиоз» никогда не делает их одним существом, в нашем случае, единым обществом с едиными целями и ценностями. «Социальный симбиоз», т. е. основанный на патерналистском обычае, авторитарной традиции и насилии «компромисс» между народом и властью благоприятствует и сопутствует «застоям», но, как правило, плохо переносит быстрые и динамичные изменений. Власть тогда теряет свою легитимность, а народ демонстрирует спонтанную предрасположенность к бунту. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что стихийные волнения и бунты, которые в условиях демократических режимов свидетельствуют о нарушениях и «бляшках» в системе «обратной связи» правительства и народа, то есть о болезнях власти и управления, в авторитарно-бюрократических режимах являются не только симптомом болезни, но и элементом несущей конструкции таких режимов. Очень часто у народа просто нет иной возможности выразить свое отношение к актуальной политике. Бунту нередко сопутствовали более или менее целеустремленные попытки донести «Правду» до московского начальства, а частичный успех волнений (что иногда случалось) оплачивался сломанными судьбами и жестоким наказанием «зачинщиков».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: