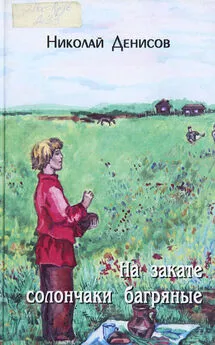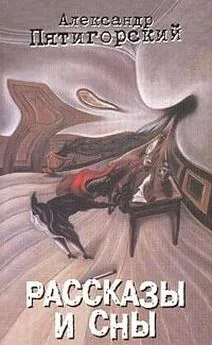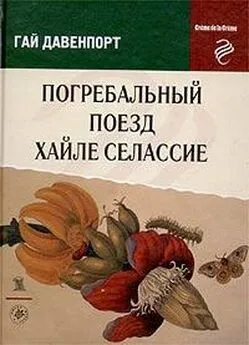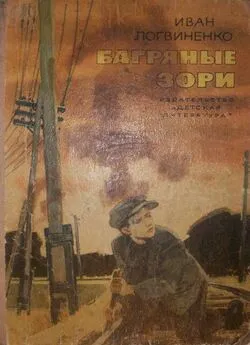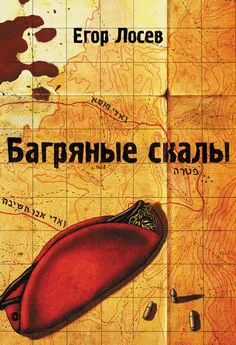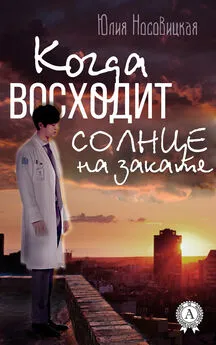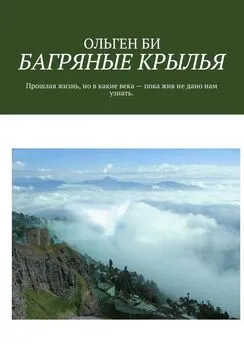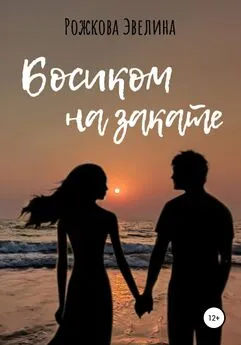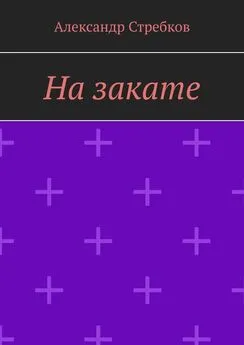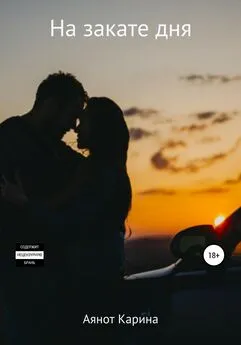Н. Денисов - На закате солончаки багряные
- Название:На закате солончаки багряные
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Банк культурной информации
- Год:2003
- Город:Екатеринбург
- ISBN:5-7851-0459-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Н. Денисов - На закате солончаки багряные краткое содержание
Новая книга поэта и прозаика Николая Денисова «На закате солончаки багряные» — документальное лирическое повествование о малой родине автора — селе Окуневе Бердюжского района Тюменской области, о близких ему людях, «о времени и о себе». Автор рассказывает о поре ранних детских лет, прокладывая своеобразные «мостики» в современность.
Книга издается к 60-летию Николая Денисова.
На закате солончаки багряные - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Валя — тетки Анны дочь. Она постарше меня, похитрей: знает, где и как попасться на глаза бабушке Настасье! В кармашках ситцевого платьица у Вали всякие фарфоровые и стеклянные «чечки». Хвастается! А мне-то какое дело до этих «чечек»? Наплевать! Мне б добраться до бабушкиного патефона или понажимать кнопки гармони.
Гармонь в этот раз привез из Германии дядя Петя. У хромки по двадцать пять кнопок с обеих сторон, перламутровые планки, ремни из настоящей кожи. Как жар, горят и пахнут неслыханным духом мехи! Тут и сравнений никаких не подберешь! Гармонь стоит на угловом столике под божницей, накрытая кружевной накидкой, сияя, маня. Брать нам, мелюзге, ее не дозволяется. Да и патефон тоже самовольно лучше не трогать. Заводится он никелированной кривой ручкой только под присмотром взрослых. Хотя эка сложность — патефон! Бери поосторожней хрупкую казеиновую пластинку, ставь, отпускай стопор, прилаживай головку с иглой к пластинке. У бабушки их большая стопа — в бумажных пакетах. На пакетах написано большими буквами — «Апрелевский завод».
Самая популярная у гостей пластинка с песней «Когда я на почте служил ямщиком». И другая, правда, с некоторых пор с дефектом — отколотым краем — «Шумел-горел пожар московский». Отец наш виноват в порухе. Как-то облокотился неосторожно на стол с пластинками, одна возьми и тресни по краю. Тут опять бабка отца укорила. Говорили, требовала возместить убыток. Зятек терпел, помалкивал, но, как уже сказано, до поры до времени…
Один из приездов дяди Пети совпадает в моей детской памяти с весенней «помочью», то есть с копкой огорода и посадкой картошки. Так и вижу отпускника во всем его блеске нашивок и наград. А во дворе околоточное воинство с лопатами. Десятка полтора соседских баб и ребятня. Лет по 12–13. Мы, малышня, тоже при лопатах, черенки которых поголовно выше нас. Большинство подростков знакомы с куревом, пробовали и бражку. У бабки того и другого припасено. Стало быть, только свистни помогать, на крыльях народ летит! И хоть у Колихи работы много — и земля возле дома, и на берегу озера еще загородка под посадки табака и капусты, но большой оравой, с подначками и шутками управляются как раз к полудню. А там — мыть руки и за столы! И вот наелись, нагулялись, наплясались под «музыку» банного тазика, печной заслонки, разбрелись по деревне с песнями. До утра будет шуметь и голосить улица…
Застолье продолжает родня: сестры, зятья, свояки, свояченицы. Дальние. Ближние. Здесь же — соседки-помощницы бабки.
— За тебя, Петя! С приездом, Петр Николаевич!
Всё так. А для бабушки важно, что, в первую очередь, не обижены, накормлены, напоены работники. Как бы походя, вскопан огород, посажена картошка. Осталось управиться с грядами: лук, чеснок, морковка, свекла, калега, капуста! Столько всего! А еще плантация «зверского» табака-самосада. Ох, и выручал он, табачок, в военную пору, ох как выручал! Как теперь бы сказали, «расчетной валютой» был в женском крестьянском хозяйстве. С работниками-помощниками табачком и рассчитывались. Потом припасать будут в крестьянском хозяйстве для вспашки огорода или вывозки сена другую «валюту» — бутылку водки. Провались она пропадом. Но трактористы-шофера иного расчета и не признавали.
Вернемся в застолье. Нарядно в нем. Хорошо. И хоть не сравниться никому с блистательным отпускником, а все же и родня обряжена в самое-самое! Пиджак суконный на отце, платье яркое бумазейное на матери. Диагоналевые брюки-галифе с синим френчем на Петре Ивановиче.
О себе он повествует: «На фронте не был, работал в трудармии». Ясно. Но военную форму «братка» сильно уважает. На этот раз, похоже, танкист-старшина привез ему в подарок фуражку с бархатным околышем. Блеск!
Тетка Нюся — третья сестра дяди Пети. Она в модном крепдешиновом платье. Аккуратно и тоже по моде уложены ее волосы. Пахнет тетя Нюся духами. Она у нас «антиллигенция», как говорит тетка Анна про младшую сестру, поскольку та работает секретарем сельсовета.
Прибыл как раз к застолью кто-то из ишимской бабушкиной родни. У неё там много сестер, зятьев, племянниц и племянников. Тот самый коханский выводок. Он и останется в моей памяти загадочным, далеко не крестьянским племенем. Образованной, культурной городской родней, о которой мне надлежало знать, положено было родниться или хотя бы запоминать их чудные для крестьянского слуха имена и польские фамилии. Но так уж сталось, что прошли они, едва коснувшись моей жизни загадочным городским родством своим, нездешние, не по-деревенски разодетые, пахнущие дорогими одеколонами, кушающие с ножа и вилки…
Другая бабкина родня, по второму мужу Николаю Даниловичу Корушину, она понятней. Фамилия для Окунева свойская. И тоже многочисленная, обильная мужиками, бабами, мальцами. Плохо разбираясь в родстве, с кем-то из них я дрался в ту пору, не щадя живота. Потом уже разобрались…
Гордясь дворянством, высокородным происхождением, купеческим званием польских родичей, бабка в данном случае сошлась с окуневскими пролетариями, из которых известен в сибирской округе революционный комиссар Тимофей Данилович Корушин. (Нынче одна из улиц Ишима носит его имя!) В 1918 году двадцатитрехлетний унтер-офицер, фронтовик, а в Ишиме член уездного ревкома, он был в должности комиссара печати и народного образования. Во время мятежа бело-чехов арестован. Содержался в тюрьмах Ишима, Тобольска, в Иркутском Александровском централе. Узники централа подняли восстание, многие погибли. Тимофею повезло. После скитаний по тайге встретил он наступающие красные части Блюхера. Стал комиссаром одного из полков 30-й блюхеровской дивизии.
После гражданской, а пришлось ему повоевать и в Крыму (брать Перекоп), демобилизовался. Снова работал в Ишиме в той же должности «интеллигентной». Затем занимал крупные партийные посты в Уральском областном комитете ВКП(б), заведовал земельным отделом, был на съезде колхозников, встречался со Сталиным. Умер в тридцатых в возрасте 37 лет…
Конечно же, мало ведали мы в ту пору о своём комиссаре!
«Сильно стоял за Советскую власть! Окуневские, бывало, заезжали к нему в гости в Ишиме. Обходительный был. Никого не обижал». Такие разговоры в детстве слышал я от родни, но мало вникал в них. Потом, работая над поэмой о «Комиссаре Корушине», узнал, что произошло с Тимофеем в родном Окуневе, куда он приезжал агитировать мужиков за Советскую власть. Едва не прибили его богатые мужики-земляки. Зарубины, Вьюшковы да их сообщники. Зарубиных я не вспомню, не было их в селе в мою пору, а «главный враг» — Трофим Вьюшков преспокойно работал мельником на колхозном ветряке. Все детство мое махал ветряк крылами на пригорке возле лога.
Случилась та история весной восемнадцатого. Собрал Тимофей сельчан возле церкви и — с речью к ним! За новую жизнь! «Убьем!» — заорали Вьюшковы. Еще ухарей набралось и — за колья, за топоры. Не будь Тимофей при нагане, неизвестно чем бы закончилась эта агитация. Выхватил наган: «Не подходи!..»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: