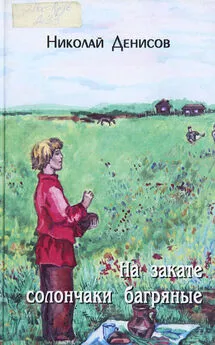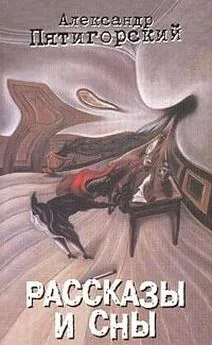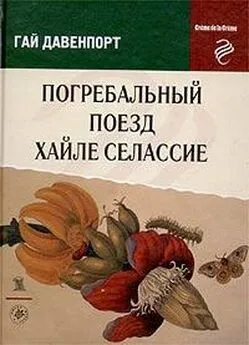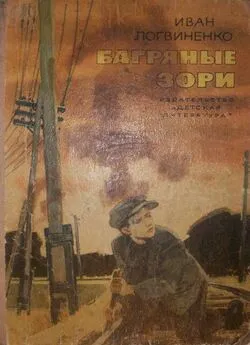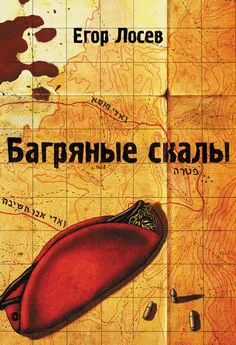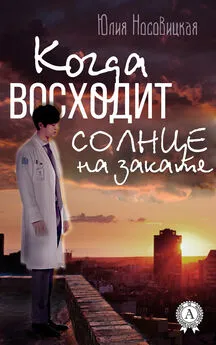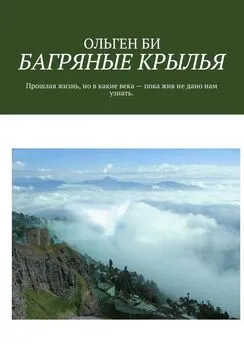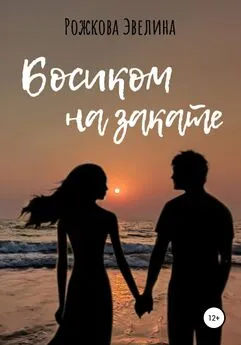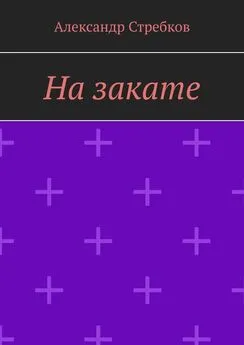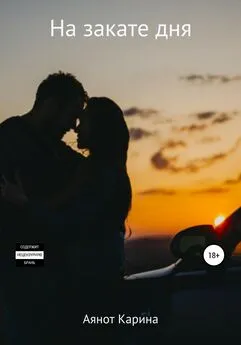Н. Денисов - На закате солончаки багряные
- Название:На закате солончаки багряные
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Банк культурной информации
- Год:2003
- Город:Екатеринбург
- ISBN:5-7851-0459-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Н. Денисов - На закате солончаки багряные краткое содержание
Новая книга поэта и прозаика Николая Денисова «На закате солончаки багряные» — документальное лирическое повествование о малой родине автора — селе Окуневе Бердюжского района Тюменской области, о близких ему людях, «о времени и о себе». Автор рассказывает о поре ранних детских лет, прокладывая своеобразные «мостики» в современность.
Книга издается к 60-летию Николая Денисова.
На закате солончаки багряные - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— И тут коммунизм! Айда, ребятишки! — зовет нас шофер.
Толя пытается что-то вымолвить, но болезненно морщится, машет рукой — обойдемся! Смех и грех с Толей! Так навалился в городе на мороженки мой дружок, «съел аж двадцать четыре штуки!» Хвастался мне, а вот теперь осип, потерял голос.
Началось все в железнодорожном саду. Туда, на трубы играющего оркестра, двинули мы с вокзала. Дивился я: столько отдыхающего народа гуляет в саду! И все в хорошей одежде. А меня все смущало, томило как-то: вот народ — ходит, разговаривает, смеется, а мы, как чужие?! В деревне у нас принято здороваться и с чужим народом! И я пробую поделиться размышлениями своими с Толей. Он иронично хмыкает. У него на сей счет свое мнение? Конечно, Толя хоть и грубоват, а начитан побольше меня, имеет свое понятие! Он влечет меня от фонтана, где под струями важно плавают два лебедя, к примеченному киоску с мороженым. Мороженое, конечно, вещь замечательная, но мне хватило и пары вафельных стаканчиков. А Толя пристал к киоску, как к варенью муха, и отставать не собирался.
Хорошо, наверно, быть городским!
— Ну будет, будет! — почти силком увлек я дружка из этого нарядного парка с фонтаном, гипсовыми скульптурами, хорошо играющими трубачами и с мороженым этим.
Дошли до автобусной остановки. И тут заспорили. Куда теперь? Паровоз посмотрели! Мороженого налопались! Куда?
— Не знаю! — валял дурака Толя. — Буду кататься на автобусе, мне понравилось…
Автобус дотряс нас до центра с каменными домами.
— Госбанк! — объявила кондукторша.
Вышли почти все пассажиры. Спрыгнули на тротуар и мы. А тут уж я заупрямился:
— Мне надо попроведовать бабушку Розалью! Мама наказала. Улица — рядом с церковью. Пошли вместе? Во-он купола с крестами…
Толя уперся:
— Вон видишь вывеска — «Колхозный рынок»! Еще пару мороженок возьмем, а потом на автобусе покатаемся, двинули!
Ломать друг друга, дело бесполезное. Сошлись на одном: улица Артиллерийская — главный ориентир, придем к пяти вечера в «экспедицию». Всё!
Стало быть, надо привыкать к самостоятельности. Побренчал я мелочью и встал в очередь к киоску «газвода». Да, конечно, шипучая водица эта повкусней рабкооповского морса. И вообще столько праздничного вокруг. Одни афиши кинотеатра чего стоят!
Автобусы тоже праздничные. Даже телега и запряженный в нее коняга забавно стучат и звякают по булыжнику!
Хорошо в городе. Вон пушки из-за забора дыбятся! Настоящие! Присел на скамейку — веселей на душе! Офицер идет, сапоги поскрипывают. Погоны в золоте.
— Здравствуйте! — говорю офицеру.
— Здравия желаю! — улыбается офицер и подмигивает мне.
Девчонки в коротких сарафанах. Смеются, глазами стреляют по сторонам. Эти пусть себе идут своей дорогой.
Устало, сразу видно, что находилась по жаре, на каменные ступеньки кинотеатра поднимается женщина. Со мной поравнялась. Так похожа на нашу учительницу Анастасию Феофановну, так похожа…
— Здравствуйте!
Остановилась, пристально смотрит на меня. Лучше сказать — уставилась в недоумении. А я, будто к школьной доске вызван с невыученным правилом по грамматике. Некуда деться. Сиди уж, коль выпятился со своей вежливостью, со своей воспитанностью. А сидеть уж не хочется: нарвался!..
— А ты из какой школы, мальчик? А что не в лагере?..
— В каком лагере? Ничего я не знаю…
— А-а, понятно, нездешний. Из деревни приехал?
— А вам-то что? Ну, приехал…
Провалиться бы! Кровь прихлынула из глубины. Щеки, чувствую, пылают! Такое со мной, сколько не борюсь, приключается…
Как со стороны себя вижу. Уставился на свои тапочки в смущении. А куда еще уставиться оставалось?!
Поднял глаза, а тетенька уже топает к углу кинотеатра, пучок укропа торчит из авоськи. Зелененький…
Бабушку Розалью, ту — из загадочной для меня польской родни, нашел самостоятельно и быстро. А сначала был ориентир — церковь! С запертыми воротами, пустым двором и одиноко бродившей по двору пестрой курицей. Картина! И церковь вот так близко впервые вижу. Но — помани, кто угодно сейчас в эту ограду, хоть чем завлекай, никогда не войду. Не пионерское дело!
Жил-был поп,
Толоконный лоб,
Пошел поп по базару
Посмотреть кой-какого товару.
Прошел поп… А перед моими глазами Балда этот пушкинский веревкой чертей мутит-пугает…
Батя наш ироничный такой: «Дай, Катерина, топор, иконы твои на щепы колоть буду…»
Церковь. Кресты на куполах. Жаркий полдень в городе. Средина пятидесятых годов. Одинокая курица, порывшись в пыли, не отыскав и зернышка-крошки, отправилась в заросли лебеды, что вялыми метелками тулились возле церковного штакетника.
Пошел поп по базару.
А я пошел к бабушке Розалье.
— Из Окунёва? — открыла она на стук в дверь. И я сразу узнал — она! В цветном халате, хорошо причесанная, завитая, вся — городская. В квартирке чисто, прибрано. Комод с кружевными салфетками. Глянцевые фигурки-слоники. Еще какие-то чудные безделушки, флаконы с духами. Цветы в вазе. И неживые цветы — в простенке. Яркие картинки на обоях. И часы-ходики с гирькой на цепочке. Обрадовался: у нас такие же! И качают языкастым маятником…
— Катеринин, говоришь, паренек… Я ведь гостила у вас, помнишь, конечно… Подрос! В каком классе учишься?
— Пять закончил нынче! — отвечаю, а тем временем уже усажен к столу, на котором появились яблоки, конфеты, сдобные булочки, а на керосинке, в кухонном уголке, что-то уже зашкворчало на сковородке. Бабушка Розалья, сестра моей деревенской бабушки Настасьи, все выспрашивает, выспрашивает. Я же, впервые попав в городскую «фатеру», как мама говорит, думаю о том, что живется городским — «не то, что у нас…»
Миновали деревню Карьково. «Зисок», натужно завывая мотором, поднялся на высокий увал, с которого открылась низинная солончаковая степь — без единого деревца и кустика. Никого. Лишь ближе к деревне Песьяново, что осталась справа, паслась отара овец и темнели два бескрылых ветряка.
Самое труднопроходимое для машин место — эта солончаковая низина. Не дай бог, говорят, оказаться здесь в распутицу иль застигнутым ливнем. Набуксуешься, насидишься по кюветам.
Но сейчас сухо, привольно. Девчата, приникнув к друг дружке, спохватились вдруг, завели песню, но на просторную про казака, что скакал через долину, уже не остается времечка. Скоро, скоро поднимемся на последний Крутинский увал, с которого откроется ближняя деревенская степь, такая ж солончаковая, с чудной растительностью. Под закатным солнышком простерта сейчас эта степь во всех своих красно-багряных тонах, в которые добавляли огня лучи заката.
Толя что-то безголосо промычал мне в ухо, показывая на огненные степные краски. Я понял, что и он счастливо захвачен этим неожиданным видением, происходящим, наверное, во всякий ясный летний вечер. Да вот приметить его, полюбоваться им, не всегда достает случая.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: