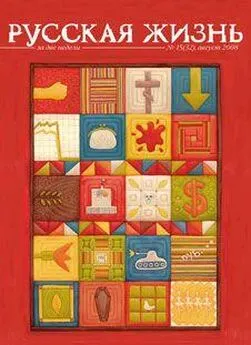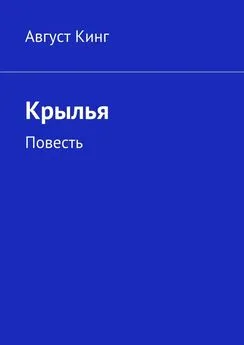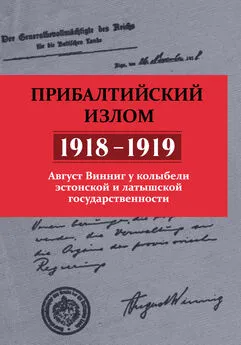Август Явич - Севастопольская повесть
- Название:Севастопольская повесть
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Худож. лит.
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Август Явич - Севастопольская повесть краткое содержание
После войны он [А. Явич] пишет «Севастопольскую повесть» (1948) — рассказ о последнем дне батареи, которая до последнего снаряда и последнего человека дралась с фашистами. Один из персонажей повести, фронтовой корреспондент Озарнин, схож с самим писателем, и можно предположить, что в нем есть автобиографический материал.
Севастопольская повесть - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Продолжая обход, Воротаев заглянул и на камбуз, где рыжеватый, веснушчатый кок Шалва Лебанидзе с неунывающим оптимизмом почти из ничего готовил что–то, напевая приятным тенорком грузинскую песню. Этот музыкальный паренек помнил неисчислимое множество песен, романсов, арий, услышанных по радио. Он всегда пел, порой даже не зная, что поет, и превосходно изображал то флейту, то гобой, то кларнет.
Воротаев любил музыку, его мысли часто сопровождались неясными мелодиями, звучавшими в его мозгу. Возможно, это свойство привило ему море, неумолчный и вечный орган, не ведающий безмолвия и тишины даже в штиль.
Командир батареи обсудил с коком, каким образом хоть ненадолго обмануть голод людей, а уходя, спросил, что за песню тот пел. Шалва просиял, его лицо расплылось в довольной улыбке.
— А хорошая песня, товарищ старший лейтенант! — сказал он с мягким, певучим акцентом, придававшим его речи какую–то особую прелесть добродушия. — Я ее от деда слышал. Понимаешь, дед сам песни сочинял, а потом, понимаешь, люди пели. — И Шалва перевел, как умел, слова песни по–русски: — «Три вещи у меня, друг, — песня, конь и кинжал. Песня — для любимой девушки, конь — для себя, кинжал — для врага».
Слова были под стать мотиву. Воротаев ушел, повторяя их про себя.
В кубрике автоматчиков он задержался подле Мити Мельникова, который тихо бредил. Он неузнаваемо переменился с того часа, как его ранило, совсем другой человек.
Бывало, по вечерам, улегшись под черным южным небом, в котором мерцают и перемигиваются осенние звезды, бойцы шутили, смеялись, и всегда слышен был зычный голос Мельникова, его раскатистый хохот. Потом устраивали немудрящий оркестр, именуя его джазом, — кто играл на ложках, кто на баяне, на балалайке, и здесь заводилой был Митя Мельников…
Воротаев вздохнул, склонился и поправил осторожно бушлат под его головой. Митя открыл глаза, посмотрел на Воротаева темным и тусклым взором и не узнал его.
— А-а… ты… маешься все… — произнес он, тяжко дыша. — Смерти боишься? Знатный швабрист… А народ не боится… Народ себя на жалеет. А ты?.. Ты… — На миг придя в себя и признав Воротаева, удивленно сказал: — А где Бирилев? Он тут только что был.
— Ну как ты, Митя? — спросил Воротаев участливо. — Может, на КП перейдешь? Там тебе лучше будет.
Но Митя отрицательно покачал головой.
— Не–ет! Я еще на позиции выйду… Во мне еще крови осталось… — сказал он протяжно, вновь погружаясь в бред и забытье.
Продрогший до костей возвратился Воротаев на КП и обрадовался, увидев, что заботливый старик Терентий прибрал в блиндаже, вскипятил воду.
За высоким ящиком, заменявшим стол, под полуслепым светом коптилки Озарнин, корреспондент флотской газеты, что–то писал, склонив низко голову с поблескивающей в спутанной шевелюре сединой. Он прибыл на батарею на несколько дней и застрял здесь.
— Пишешь? Что ты пишешь? — спросил Воротаев.
Озарнин поднял утомленные глаза и несколько секунд смотрел на Воротаева невидящим взором разбуженного, но еще не очнувшегося от сна человека.
— Что пишу? А? Вот заполню вахтенный журнал.
— Рано. Сутки еще не кончились. Еще «языка» допросить надо. И как ты можешь писать при таком свете, почти что в темноте?
— А близорукие вблизи хорошо видят, — ответил Озарнин, отодвигая тетрадь, в которую изо дня в день записывалось обо всем, что происходило на батарее. У него был глуховатый голос, а серые глаза смотрели с близорукой настойчивостью и чуть косили.
Он недавно разбил очки. Бойцы не знали, как помочь его беде, а Федя даже раздобыл ему превосходный цейсовский бинокль, полагая, что коли нельзя приблизить человека к предмету, то можно приблизить предмет к человеку.
Некоторое время Воротаев сидел, обняв закоченевшими ладонями кружку с кипятком, безжизненный и безучастный ко всему, потом отпил несколько глотков горячей воды.
— А с Мельниковым плохо.
Озарнин ничего не ответил.
Батальонный комиссар Лев Львович Озарнин был старший по званию на батарее. В сущности, со смертью комиссара батареи Кобозева он выполнял его обязанности.
— Ну и шерсть, все лицо зудит! — сказал Озарнин, почесывая заросшую щеку. — Скосить бы — так ни бритвы, ни мыла. Черт! Ничто так не освежает, как бритье, — точно десять лет за борт сбрасываешь. В девятнадцатом году у нас был комбриг, который говорил: «Бритый командир перед строем — это почище всякой агитации».
Воротаев удивленно посмотрел на него.
«О чем думает! Значит, поспал». А вслух произнес:
— Что ты там начеркал в вахтенном журнале? Прочти–ка, Лев Львович! — Воротаев придавал журналу особое значение и проверял каждую запись. Это был дневник, летопись жизни и подвигов одной зенитной батареи.
Короткая, сухая запись, сделанная Озарниным, содержала, однако, все, что надо.
«На батарее 42 человека. Легкораненых 10, тяжело — 1. Моральное состояние людей удовлетворительное. Выбывшее из строя орудие № 2 нарушило систему круговой обороны, обнажив сектор, не защищенный более артогнем. Людские резервы исчерпаны и этой бреши не заткнуть. Снаряды на исходе. Для рукопашной схватки люди слишком истощены…»
Воротаев слушал, одобрительно кивая головой, потом сказал, как бы подытоживая запись Озарнина:
— Маленький сторожевик подставил борт торпеде, предназначенной линкору.
Эта фраза поразила Озарнина своей емкостью, лаконичностью и драматизмом. Он было по привычке достал записную книжку из брезентовой сумки, служившей ранее для противогаза, брошенного за ненадобностью, но повертел ее в заскорузлых пальцах и отложил. Следовало сделать над собой усилие, принудить себя писать, но Озарнин, быть может, впервые за многие годы уступил, не противясь, своему безволию.
По правде говоря, Лев Львович Озарнин был человек слабохарактерный. Ему только перевалило за сорок. Он много скитался, кое–что видел и кое–что знал. Его очерки в свое время печатались в центральной прессе, они не лишены были наблюдательности и колорита. Но все это было не то, и никто другой, пожалуй, так ясно не понимал, что это не то, как сам Озарнин, который втайне лелеял серьезные литературные надежды.
Достигнув вершины горы, путник оглядывается на пройденный путь. Тем горше было Озарнину сознавать, что он пришел к финишу почти ни с чем.
Война застала его в Севастополе, где он проходил двухмесячный проверочный сбор на крейсере, историю которого ему поручено было написать. Ему так и не удалось повидать семью и проститься с ней.
Он побывал в осажденной Одессе, где городской трамвай подходил чуть ли не до самой передовой, а неунывающие одесситы, распевая песенку, состоявшую из одной строки: «Ой, Одесса, ты самый лучший город», научились делать гранаты из пустых консервных банок. Он слышал первый залп дальнобойных перекопских батарей, повернутых дулами к северу, откуда по непредвиденным путям наступали немецкие танки. Он пережил первый штурм Севастополя, когда в ноябрьском небе без умолку гудели «юнкерсы» и «мессершмитты» и с шумом ливня падали на мостовую осколки зенитных снарядов, когда бомбы рвались над Инкерманскими пещерами, где некогда также прятались от ядер и бризантных бомб жители осажденного Севастополя.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: