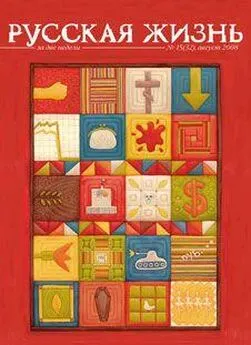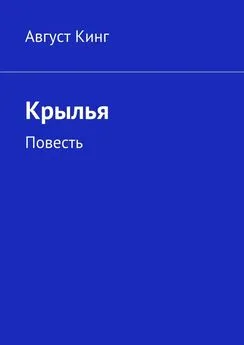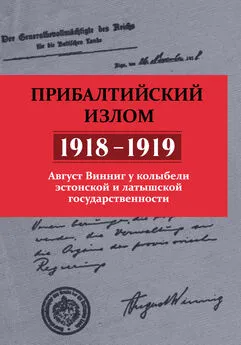Август Явич - Севастопольская повесть
- Название:Севастопольская повесть
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Худож. лит.
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Август Явич - Севастопольская повесть краткое содержание
После войны он [А. Явич] пишет «Севастопольскую повесть» (1948) — рассказ о последнем дне батареи, которая до последнего снаряда и последнего человека дралась с фашистами. Один из персонажей повести, фронтовой корреспондент Озарнин, схож с самим писателем, и можно предположить, что в нем есть автобиографический материал.
Севастопольская повесть - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Он снял с ветвей кустарника высохшие на морозе бинты, которые с вечера выстирал в холодной воде с последним обмылком. Они затвердели и стучали, как деревяшки.
В ночи раскатился орудийный залп, прямо и низко над головой с воем пронесся снаряд. Старик инстинктивно отпрянул, но оступился и упал в кустарник, который тоже дрожал.
— Что, отец? — обеспокоенно спросил Воротаев, склоняясь над стариком и помогая ему встать. — Или слишком низко снаряду поклонился?
Старый Терентий смущенно молчал.
— Скажи пожалуйста, — произнес он виноватым голосом, — сколько это я всякого грому слышал… Ведь это я с виду такой неказистый, а «Георгия» имел и медаль за храбрость. Поверишь, Алексей Ильич, я лихо воевал. Раз двух пленных австрияков с пулеметом привел, в другой раз ротного из колючей проволоки вызволил, — вцепилась она в него шипами, а у него ноги перебиты. Я его две версты на себе тащил. А кругом, скажу тебе, дождик сеет, глину развезло — шагу не ступить, и шваб насквозь чешет… — Старик растерянно помолчал и с сожалением добавил: — Видать, и смелость стареет.
— Ну–ну, отец, не огорчайся! С кем не бывает, особенно ежели невзначай. Я вон одного моряка знал — смельчак проверенный, а по сто граммов ваты в уши закладывал. «Я, говорил, как дикарь, грома боюсь, а молнии — нет, не боюсь». — Воротаев неслышно засмеялся и пошел еле различимой на снегу тропинкой.
2. Последний обход
Он шел в последний обход. Снарядов на батарее осталось едва ли на день. А если немцы повторят вчерашнее число атак, то все будет кончено уже к полудню.
Воротаев шел в морской шинели, туго стянутой в поясе черным ремнем, чтобы не продувало, с трофейным автоматом, шел мимо братских могил; мимо разрушенного дальномера; мимо обгорелых обломков сбитого «юнкерса» с черным крестом и наполовину выдранной осколком снаряда свастикой; мимо руин бани, напомнивших Воротаеву ту невозратимую пору, когда никто на батарее не смел появиться небритый.
Он шел и думал, думал о том, что со вчерашнего вечера, как выбыло из строя орудие «номер два», образовался на правом скате горы участок, который более не простреливается артиллерией.
«Если прикрыть его автоматчиками, — думал он, — оголится другой участок. Тришкин кафтан. Слишком мало осталось людей».
В конце лета номерная зенитная батарея обосновалась вблизи Севастополя, на высоте 60,4, как обозначена эта высота на военных картах. Ядро батарейцев составляли моряки. Они принесли с собой свои обычаи, привычки, свой трудовой распорядок от побудки до вечерней справки, свой язык: тропинки они называли трапами, площадки — палубами, землянки — кубриками, а Севастополь, когда они оказались отрезанными от него, — Большой землей. Порядок на батарее был установлен, как на корабле: горнист играл побудку, «бачковую»: «Бери ложку, бери бак, нету ложки — кушай так»; играл авралы, боевые тревоги.
Батарее приходилось много и часто стрелять, так как немцы без устали бомбили главную морскую базу, минировали вход в бухту. В то же время батарея не переставала тренироваться в стрельбе по наземным целям.
И когда немцы прорвались в Крым, к Севастополю, зенитная батарея, воевавшая до тех пор с самолетами, стала воевать и с танками.
Оседлав господствующую над местностью высоту, батарея сковала противника на виду у Севастополя. Обойти ее немцы не могли, сбить с ходу не сумели, оставалось начать осаду этой неожиданной крепости, возникшей у них в тылу. Немцы обрушили на нее столько огня, что высота превратилась в действующий вулкан. Вокруг не стало живого места на земле.
Воротаев поднялся на вершину холма. В багровом сумраке вставали темные руины Севастополя. Ветер раздувал пламя пожаров, и свет от них, то сжимаясь, то расправляясь, далеко отбрасывал огромные корчащиеся тени, и до самого горизонта полыхало море в красных отсветах.
С моря дул ровный и резкий ветер, неся снежную пыль, соленую на вкус и пахнущую гарью.
Воротаев узнавал, вернее — угадывал во мгле знакомые места: красноватые развалины Херсонеса, всегда казавшиеся Воротаеву нетленными; большой рейд, ныне пустынный и бурный; Братское кладбище с запущенными могилами и покосившимися крестами и могилу бригадира Ивана Федоровича Воротаева, безвестного героя севастопольской обороны, быть может, дальнего родственника, а вероятнее всего, однофамильца, приблизившего мечтательного моряка к тем отдаленным и памятным событиям; Исторический бульвар, круглое здание Панорамы с незабываемой картиной Рубо, которая ожила вдруг перед глазами Воротаева: бледный свет ранней июньской зари; вытоптанная трава; черные, потные лица солдат; как будто подрагивающие огоньки свечей на походном иконостасе; землистые ступни мертвеца; желтые клубы порохового дыма, сквозь который синие французские мундиры кажутся зелеными; и адмирал Нахимов на бастионе.
Воротаев любил Севастополь, в котором прошла вся его жизнь. Ему недавно сравнялось двадцать восемь. Он любил кольцевые улицы, смыкающиеся, как пояс; зеленые вагончики трамвая, на буферах которых не прочь был прокатиться маленький Лешка Воротаев; широкие каменные трапы со щербатыми ступенями, взбирающиеся на второй, на третий ярус улиц и еще выше — чуть ли не к весеннему месяцу, выглянувшему из–за широкого плеча собора, где покоятся останки создателей Черноморского флота.
Воротаев любил крутые переулки с обомшелыми, как сакли, домишками, как бы падающими с крутизны и чудесно застывшими в своем падении; и белый, словно высеченный из куска мела, домик деда на Корабельной стороне; и самого деда, капитана буксира, с широкой, покачивающейся походкой моряка, узловатыми руками и неожиданным тенорком. Про ветхую дедовскую посудину по имени «Труженик» с высокой, черной трубой и пронзительным гудком злословили, что она тонула по меньшей мере двадцать раз. И каждый раз, как она, таща непомерно груженную баржу, обрывала визгливый трос и опрокидывалась в море, дед успевал крикнуть в переговорную трубку машинисту: «Стоп! Без паники! Идем на дно».
Воротаев любил морскую службу, продолговатые серебряные тени кораблей на воде, алчный спор чаек за кормой, которые последними провожают моряка и первыми встречают, дремучие закаты, дальние плавания с их тяжким однообразием, солеными от матросского пота авралами и боевыми тревогами, суровой земной тоской, скупым досугом, постоянным недосыпанием и привычным, будничным героизмом, и неугасимый, пресный запах земли.
Воротаев любил прозрачные мартовские бульвары, пахнущие морским свежаком и влажной почкой миндаля, и первое цветение «иудиного» дерева — так называла Вера дерево, правильного названия которого и Воротаев не знал.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: