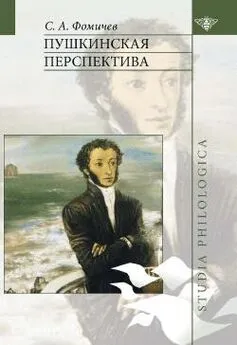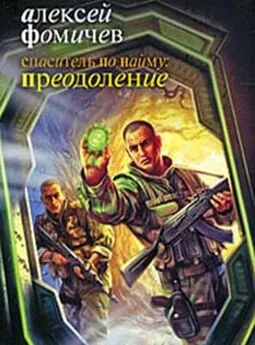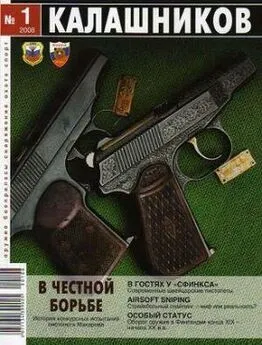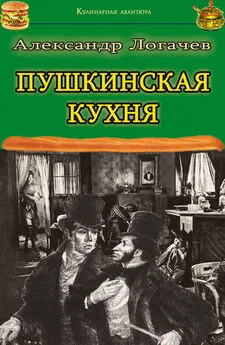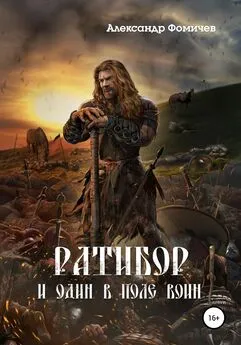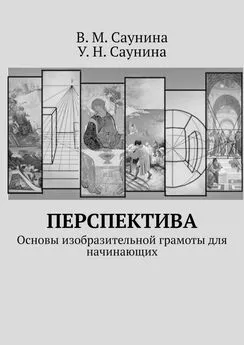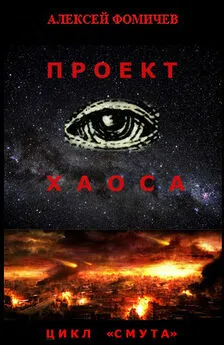С. Фомичев - Пушкинская перспектива
- Название:Пушкинская перспектива
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Знак»
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:5-9551-0180-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
С. Фомичев - Пушкинская перспектива краткое содержание
Пушкинская перспектива - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ты проходишь мимо кельи, дорогая,
Мимо кельи, где бедняк чернец горюет,
Где пострижен добрый молодец насильно,
Ты скажи мне, красна девица, всю правду,
Или люди-то совсем уже ослепли,
Для чего меня все старцем называют?
Ты сними с меня, драгая, камилавку.
Ты сними с меня, мой свет, и черну рясу,
Положи ко мне на груди белу руку
И пощупай, как трепещет мое сердце,
Обливался все кровью с тяжким вздохом… [69] См.: Винокур Г. О. Борис Годунов. Комментарий// Пушкин. Том седьмой. Драматические произведения. М.; Л., 1935. С. 500–501.
По-скоморошьи же Варлаам все время сыплет пословицами и прибаутками, подчас довольно рискованного свойства. Позже рецензент Ш-го отделения в официальном отклике на пьесу особо заметит: «Пословица – вольному воля, спасенному – рай, переделана: Вольному воля, а пьяному рай». [70] Там же. С. 414.
Но Пушкину, несомненно, ведомо, что у скоморохов такие прибаутки «придавали большую остроту шутливым пословицам: „Бог поберег: вдоль и поперек“, „Бог – старый чудотворец: попущает – и свинья гуся съедает“, „Бог не Микитка, повыломат лытки“, „Бог суди твои костыли“ (притворство), „На дудку есть, а на свечку денег нет“, „Поп в колокол, а мы за ковш“, „Первую мерлушку попу на опушку“, „Келья – гроб, и дверью хлоп!“, „Богу с перст, а черту с пест“ (о свече), „Удалые на Волге да в тюрьме, умные в келье да в кабаке, а дураки в попы ушли“». [71] Власова 3. И. С.342.
По первоначальному плану, происшествием в корчме заканчивалась первая часть пьесы, почти половина сцен в которой имела ярко выраженную смеховую огласовку. Это и определило первоначальное заглавие пьесы.
13 июля 1825 года Пушкин сообщал П. А. Вяземскому:
Передо мной моя трагедия. Не могу вытерпеть, чтоб не выписать ее заглавия: Комедия о настоящей беде Московскому Государству, о ц.(аре) Борисе и о Гришке Отр.(епьеве) писал раббожий Алек с. (андр) сын Сергеев Пушкин в лето 7333, на городище Воронине. Каково? (XIII, 188).
To же заглавие зафиксировано автографом ПД 73. [72] По первоначальному назначению автограф ПД 73 был, вероятно, титульным листом драмы, из которой к тому времени были вчерне отработаны сцены, составлявшие, по мысли автора, первую ее часть – до сцены в корчме. Это подтверждается перечнем «Действующих лиц в 1-ой части», записанным на обороте ПД 73, который между прочим свидетельствует, что в пьесе пока отсутствовала одна из важнейших сцен, «Царские палаты», – иначе среди персонажей были бы указаны два стольника, диалогом которых эта сцена открывается. Вероятнее всего, она появилась в пьесе лишь после 13 сентября 1825 года, когда Пушкин сообщал Вяземскому: «Сегодня кончил я 2-ую часть моей трагедии – всех, думаю, будет 4. Моя Марина славная баба: настоящая Катерина Орлова! знаешь ее? Не говори, однакож, этого никому. Благодарю тебя и за замечание Карамзина о характере Бориса. Оно мне очень пригодилось. Я смотрел на него с политической точки, не замечая поэтической его стороны; я его засажу за евангелие, заставлю читать повесть об Ироде и тому подобное» (XIII, 226–227). Будь сцена «Царские палаты» к июлю 1825 года написана, Пушкин бы не сетовал на то, что не заметил «поэтической стороны» Бориса (косвенным же воспоминанием о «повести об Ироде» в его монологе служит восклицание о «мальчиках кровавых в глазах» – именно о «мальчиках», а не только об одном убиенном младенце).
Но строка об «авторе» здесь постепенно уточнялась: сначала было помечено: «сочинено [А] Валерианой Палицыным». Это свидетельствовало о знакомстве Пушкина со «Сказанием Авраамия Палицына об осаде Троице-Сергиева монастыря», одним из самых ярких произведений о событиях Смутного времени. [73] Оно было помещено наряду с другими сочинениями той поры в томе «Дополнений к Деяниям Петра Великого, мудрого преобразителя России», составленных И. И. Голиковым – книга эта была у Пушкина в Михайловском и наряду с «Историей» Карамзина использовалась в работе над пьесой (см.: Листов В. С, Тархова Н. А. Труд И. И. Голикова «Деяния Петра Великого…» в кругу источников трагедии «Борис Годунов» // Временник Пушкинской комиссии. 1980. Л., 1983).
Замена же имени «Авраамий» (Пушкин и начал было его писать: «А…»), несомненно, не ошибка, а наметка сознательной мистификации. Впрочем, уже в ПД 73 сведения об авторе были исправлены: «писано бысть Алексашкою Пушкиным». В самоуничижительном самонаименовании была запечатлена все та же смеховая стихия.
Первоначальное название своей пьесы Пушкин стилизовал под заглавия представлений старого русского театра (1672–1676) на заре его зарождения в царствование Алексея Михайловича – в ту пору были поставлены, в частности, «Комедия об Адаме и Еве», «Комедия о Давыде и Голиафе», «Комедия о Бахусе с Венусом (т. е. Венерой. – С. Ф.)», [74] В сентябре 1825 года Пушкин писал П. А. Катенину: «Послушайся, милый, запрись да примись за романтическую трагедию в 18-ти действиях (как трагедии Софии Алексеевны). Ты сделаешь переворот в нашей словесности, и никто более тебя того не достоин» (XIII, 225). В данном случае Пушкин ориентировался на статью из журнала «Северный архив», где, в частности, говорилось: «Во время малолетства государя Петра I играны были в Заиконоспасском монастыре комедии, как духовные, так и светские, а царевна София Алексеевна с приближенными девицами и знатнейшими царедворцами сама игрывала в комнатах у себя. По преданиям известно, что она сочинила одну трагедию» (Северный архив. 1822. Ч. 4. № 21. С. 180).
но сама пространная формула Пушкиным заимствована из «Летописи о многих мятежах…». Одним из названий данного компилятивного сочинения, составленного в царствование Алексея Михайловича и изданного в 1772 году, было «О настоящей беде Московскому государству и Гришке Отрепьеве». [75] См.: Городецкий Б. П. Драматургия Пушкина. М.; Л., 1953. С. 181.
В употреблении XVII века слово «комедия» значило вообще «пьеса». Но в пушкинской стилизации под старину, несомненно, отзывалось до некоторой степени и вполне современное значение термина, что сразу же задавало необходимый контраст: «комедия… о беде», – определяющий сложную стилистику произведения. Возможно, Пушкин имел к тому же какое-то представление о народном театральном представлении – «Комедии о царе Максимильяне и его сыне Адольфе», в которой царь безуспешно требовал от сына отказаться от христианской веры и казнил его. Пьеса, однако, этим не кончалась.
Своеобразны (…) финалы «Царя Максимильяна». Они различны в каждом из вариантов, но общим для них является то, что образ царя к концу представления как бы блекнет. (…) В некоторых вариантах царя свергают с престола или за ним приходит Смерть. Но самыми интересными являются финалы, где царь подвергался карнавальному развенчанию, такому же, как «игра в царя». В свою очередь, суть игры состояла в том, что участники сначала выбирали себе царя и «ходили» под его руководством – выполняли всевозможные его приказы и поручения, – потом же, в заключение игры, издевались над ним, иногда даже избивали, т. е. разоблачали, развенчивали. [76] Русский драматический театр. М., 1976. С. 15, 13. Представление «Царя Максимилиана» в омском остроге позже опишет Ф. М. Достоевский в «Записках из Мертвого дома».
Интервал:
Закладка: