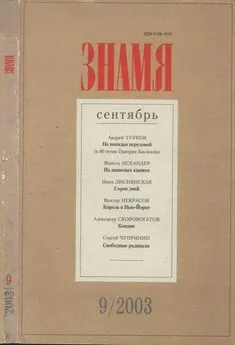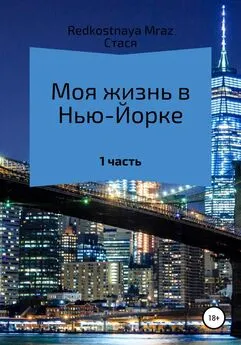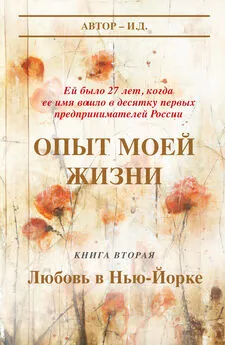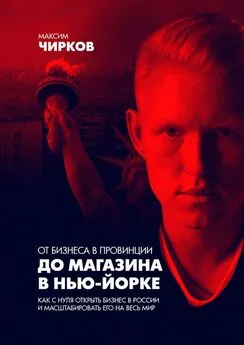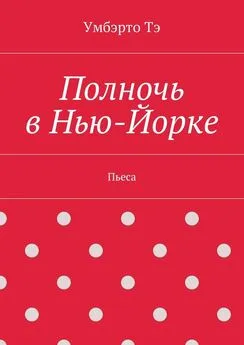Артур Штильман - В Большом театре и Метрополитен-опера. Годы жизни в Москве и Нью-Йорке.
- Название:В Большом театре и Метрополитен-опера. Годы жизни в Москве и Нью-Йорке.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Алетейя»
- Год:2015
- Город:СПб
- ISBN:978-5-9905926-2-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Артур Штильман - В Большом театре и Метрополитен-опера. Годы жизни в Москве и Нью-Йорке. краткое содержание
В своей новой книге он делится с читателем впечатлениями о встречах с прославленными музыкантами, великими дирижерами, рассказывает о закулисной жизни театров ярко, профессионально точно и убедительно. Его книга – невероятно интересный документ эпохи, свидетелем и участником знаменательных событий которой был талантливый скрипач Артур Штильман.
В Большом театре и Метрополитен-опера. Годы жизни в Москве и Нью-Йорке. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Никогда ничего подобного тому потрясению от картины Рафаэля я не испытывал, посещая в будущем лучшие музеи мира – Парижа, Мадрида, Вашингтона или Нью-Йорка. Одна из сокровищниц мира – музей «Эрмитаж» имеет свой шедевр – «Мадонну Литта» Леонардо да Винчи. Но всё равно потрясение от «Мадонны Сикста» и сегодня для меня осталось самым сильным, невероятным и неописуемым художественным впечатлением в живописи и вообще в изобразительном искусстве.
С чем можно было бы сравнить в музыке, например, Эль Греко и Рафаэля? Для меня художественная параллель кажется такой: Эль Греко ассоциируется с музыкой Баха, Рафаэль, как это ни странно, со значительно более «молодым» композитором и даже конкретно одним его сочинением – «Мадонна Сикста» с «Реквиемом Манцони» Джузеппе Верди. Конечно, такие ощущения – вещь совершенно индивидуальная. Но как это обогащает наши души и чувства! Из «Цвингера» уходят другими людьми. После посещения «Цвингера», благодаря немыслимому и фантастическому шедевру Рафаэля – люди, хотя бы ненадолго, становятся лучше.
С другой стороны, я не представляю себе, как можно находиться рядом с «Мадонной Сикста» в толпе людей? Слышать голоса зрителей? Видеть закрывающие этот шедевр спины? А кто-то ещё будет обмениваться мнениями со своей подружкой или начнёт беспричинно смеяться или…
Нет! Нам тогда несказанно повезло. Это было личное, совершенно обоюдное доверие – наше к «Мадонне» и её – к нам.
После «Цвингера» мы настолько устали физически и эмоционально, что решили сделать небольшой перерыв, зайти в универсальный магазин, пообедать там, а потом ехать в Лейпциг, не делая никаких остановок по дороге. Лейпциг был важнейшей нашей целью – как музыканты мы были обязаны побывать в «Томас-Кирхе», чтобы отдать дань великому Баху и постоять около плиты в полу церкви, где «Лейпцигский кантор» был похоронен.
В Дрездене во время нашего посещения большого универмага я обратил внимание на какое-то странное поведение местных жителей. В магазине было довольно много покупателей, но когда мы с Валентином шли через торговый зал, перед нами неожиданно и сразу возникала пустота и открывался прямой путь – люди, завидя Валентина в форме капитана Советской Армии, мгновенно сворачивали в сторону с нашего пути. Я спросил Валентина – в чём дело? Что, местные жители так боятся армейских офицеров? «Нет, – ответил он. – Они уважают «право победителей». «То есть они до сих пор помнят?» «Ну, наконец ты догадался! Именно так! Помнят и будут помнить, пока мы будем здесь стоять! Именно так они воспитаны – если они победители – все должны уважать их право, но уж если проиграли – без всяких признают наше право победителей. Потому и уступают дорогу. Вот теперь ты видел это сам». Это было для меня чем-то совершенно неожиданным в таком массовом проявлении общего правила – неписаного и необъявленного, но реально в их жизни существовавшего.
Приехав в город на центральную площадь, как ни странно довольно хорошо сохранившуюся, мы пешком дошли до Церкви св. Томаса. После первой входной двери на стене висела табличка: «Здесь работал Иоганн Себастьян Бах, кантор, отец 15 детей». Это было всё.
Нацисты переделали все витражи и, несмотря на войну, они полностью сохранились. Витражи ужасающе не соответствовали духу этого места. На них были изображены «арийского» вида солдаты, убивавшие каких-то непонятных людей в крестьянских одеждах. Эти «крестоносцы» были в форме вермахта времён Второй мировой войны. Как видно власти ГДР не слишком торопились заменить столь несоответствующий идеологический «товар» на новый, или лучше сказать – на старый, восстановив витражи догитлеровских времён.
Мы подошли к сохранившемуся клавесину и органу, на которых играл великий мастер. А в центре кирхи была плита, на которой было написано – «Иоганн Себастьян Бах» и даты его жизни. Сколько мыслей пронеслось у нас в голове! Почему-то представилось, как в непогоду Бах со своими маленькими хористами стоит на кладбище у открытой могилы для отпевания усопшего… Почему именно такая картина? Наверное потому, что все знали, что любые «побочные» заработки добавляли Баху к скудному жалованью немного денег, таких необходимых для пропитания его семьи и небольшого увеличения рациона его маленьких воспитанников. Эта встреча с реальным местом жизни и работы великого Баха запала в наши души. Даже неприятное и неуместное присутствие на витражах «воинов-крестоносцев» в обличии нацистов, не могло испортить чувства соприкосновения с духом жившего и работавшего здесь больше двухсот лет назад величайшего композитора в истории человечества.
После короткого проезда по центральным улицам Лейпцига, кстати, очень большого города, мы повернули в обратный путь. Слишком много было впечатлений для одного дня! Приехав под вечер, нас не покидало ощущение редкой удачи, которая выпала нам всем в тот день. Мне кажется, что все участники той незабываемой экскурсии запомнили его навсегда. Мы прочувствованно поблагодарили наших хозяев за эту поездку.
Впереди у нас было ещё почти три недели работы и довольно большой объезд Восточной Германии: Шверин, Нойштрелиц, Людвиглуст, Фюрстенберг. Там, в Фюрстенберге, во время концерта мы увидели командующего местной группой войск генерала Говорова, сына легендарного маршала времён Отечественной войны. Сын маршала был поразительно похож на своего отца внешне и был примерно в том же возрасте, что и его отец в годы войны. Мы выступали в бывшем театре-кабаре, предназначавшимся для увеселения лётчиков Геринга в годы мировой войны.
Фюрстенберг находился поблизости от бывшего концлагеря Равенсбрюк, располагавшегося на берегу прелестного небольшого озера. Равенсбрюк не был лагерем уничтожения, это был специальный женский штрафной лагерь для коммунисток и других неугодных нацистам лиц. Там погибла известная антифашистка Катя Нидеркирхнер. Мы видели страшный подвал, где её держали в абсолютно холодной камере вплоть до самой казни. Кажется, только две камеры в подвале тюрьмы восточные немцы сохранили в оригинальном виде. Всё здание тюрьмы было переоборудовано в музей. Туда приводили экскурсии юных пионеров Восточной Германии. И, право, ничего страшного пионеры там не видели. На стендах под стеклом – игрушечные фигурки изображали прибытие заключённых на железнодорожную станцию. Потом их путь в бараки лагеря. Потом аккуратно сделанная модель самого лагеря. За другими стендами можно было видеть одежду заключённых, самодельные вещи – расчёски, щётки, кисточки для рисования (что жесточайшим образом пресекалось).
Словом, ничего кошмарного в такой экспозиции в образе к/л Равенсбрюк никак не виделось. Выставка была довольно скучной. За исключением фотогалереи. Там были фото женщин с грудными детьми – им разрешалось их брать с собой. Там было фото Нидеркирхнер. Эти фотодокументы производили очень большое впечатление, хотя и были официальными снимками. Что в них впечатляло? Обыденность ужаса человеческого существования в лагере – каждой минуты, каждого часа… И каждое мгновение могло быть последним. Умирали от голода, болезней, массовые казни были обычной практикой. Потому там был крематорий. Не огромный комбинат, как в Освенциме, а небольшой, кажется всего на четыре печи. Сами печи находились под деревянным навесом, пол под которым был выложен большими жёлтыми футовыми плитами. Сразу почувствовался запах. Запах кремирования сохранился в течение 22 лет после окончания «работы» этого небольшого крематория! Этот запах преследовал нас целую неделю. Всё, казалось, вокруг было им пропитано – город Нойштрелиц, где мы расположились на пять дней, наша военная гостиница, магазины, еда – всё кругом «пахло».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


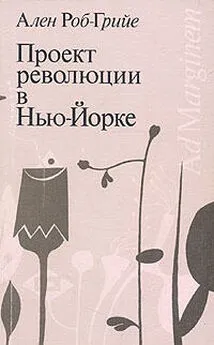
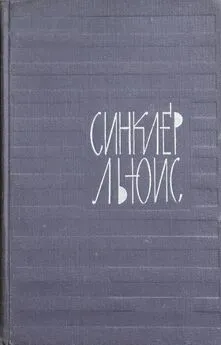
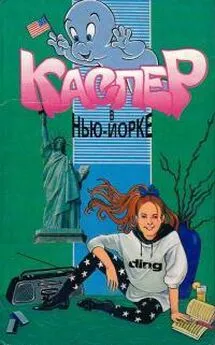
![О Генри - Алиса в Нью-Йорке [= Эльза в Нью-Йорке] [Elsie in New York]](/books/1074380/o-genri-alisa-v-nyu-jorke-elza-v-nyu.webp)