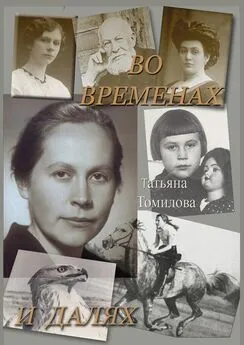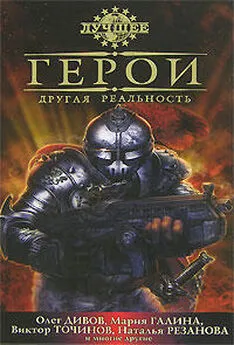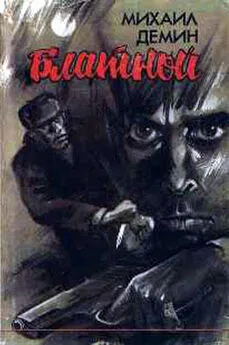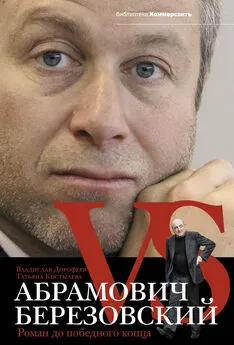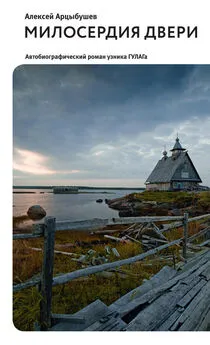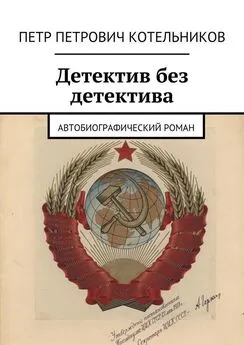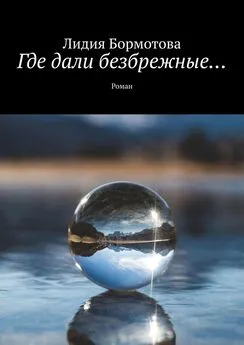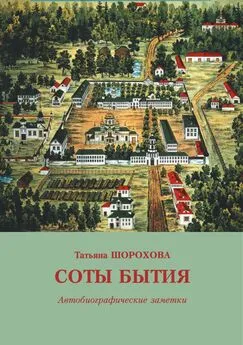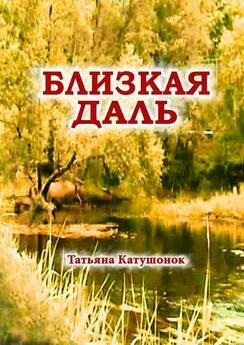Татьяна Томилова - Во временах и далях. Автобиографический роман
- Название:Во временах и далях. Автобиографический роман
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785448583247
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Томилова - Во временах и далях. Автобиографический роман краткое содержание
Во временах и далях. Автобиографический роман - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Надо было заняться творчеством и другого рода. Раз, купив мороженного, наломав в стакан немного шоколада, я принесла это потрясающее лакомство Вовке с вестью о якобы открытом заезжим фокусником (почти волшебником) конкурсе на «верное имя» своему ручному бегемоту. Не может бегемот взлететь без вслух произнесенного правильного имени! А «пломбир» – задаток. Уверовал ли мой кузен (официальный Вовкин статус для посторонних) в экспромт, подобно снежному кому, обраставший парадоксальными подробностями? Верить хотелось, да и столь весомый аргумент, как мороженное, сбрасывать со счетов не приходилось… И началось, по известной сказке – «А не звать ли его так-то, или этак-то?». Я, принося очередной стаканчик, подбадривала Вовкину фантазию невероятными подсказками и сообщениями о начавшихся маленьких взлетах животного. Наконец (в предвидении конца моих финансов), мы вышли, после проб и переделок, на имя уж совершенно неотразимое – «Великое Фыркалище». В момент его оглашения бегемот взлетел на глазах у допущенных к опыту свидетелей, но приземляться раздумал. Сейчас держит курс, похоже, на Африку. Вдогонку послан самолет с крепкой сетью. А мороженное это, стало быть, последнее. «Да ну его, мороженное! Только бы долетел!»
В конце лета, однако, вернулась Вовкина мать. Бедный парень так и кинулся к ней. Мне она привезла целую коробку сушеных звезд и ракушек (положивших начало собственным сборам). Вовка же вытребовал у мамы свои старые штаны и тут же в них влез. Покинули они нас в тот же день. Но все это, вместе с разлукой, произошло значительно позже…
А в тот, первый свой школьный год я оказалась разлучена с Ритой – попав в одну школу, мы оказались в параллельных классах. Виделись урывками, на большой перемене, когда можно было съесть свои завтраки на одном подоконнике и обменяться информацией. К тому же в первом классе Рита, часто болевшая, сумела пропустить чуть ли не весь учебный год. Несправедливость судьбы удалось исправить лишь к третьему году обучения. Но и тогда для общения оставалось времени в обрез. Особенно у меня, занимавшейся еще с мадам Ло и Анной Ивановной.
К этому добавились поездки (куда-то в зимнюю тьму) к двум сестрам-немкам, для совершенствования языка. Эти уроки были групповыми. За большим столом мы писали диктанты, читали вслух, играли в требовавшие внимания игры, цифровое лото. В страхе что-либо не понять, я не имела времени рассмотреть своих соседей, не знала ни числа их, ни имен. О каком-либо более близком знакомстве не могло быть и речи – после занятий родители одевали нас в темной прихожей и уводили. К стыду, не помню точно имени нашей строгой учительницы (Амалия?), хотя довелось общаться с нею и позже. Но помню имя ее более мягкой, ведшей домашнее хозяйство сестры, склеившей мне раздавленного чужой неосторожной ногой пластмассового льва. Ее звали Агата.
Встречаться с Ритой мы еще могли на так называемых уроках ритмики. Проводили их, по договоренности с родителями славного Жени, в одной из их комнат, в которой имелись «инструмент» и оскаленная шкура бурого медведя (заранее скатываемая). Там мы, несколько девчонок с тем же Женей попадали под руководство восседавшей за роялем учительницы. Для начала маршировали под бодрый «Светит месяц, светит ясный». Его я долго принимала за «Турецкий марш» Моцарта – по причине «месяца». Затем под музыку изображали насекомых. Мне удавался разве что Муравей, медленно переставлявший ноги под тяжким грузом (согнутые колени, сцепленные руки закинуты за плечо). А ведь рядом порхали и Мотыльки, и Стрекозы! Не помню, кем бывала Рита, возможно – Пчелой. Был у нас и «оркестр» из ударных инструментов. С трудом удерживала я на весу тяжелый блестящий треугольник, в который еще надо было ударять палочкой. И завидовала невесомому Тамбурину, Погремушке и Рите с ее маленьким, легким треугольничком. Зато научилась лихо скакать «боковым галопом» в роли Охотника, иногда – даже в такт музыке.
Дополнительно к этим занятиям, для выправления лордоза, меня возили в группу профессора Турнера при ортопедической клинике Военно-медицинской академии, где мы на четвереньках подолгу ползали по кругу и качались на кольцах. Ползание я пыталась оживлять хищными поворотами головы и тихим рычаньем. Это позволялось.
Не рассчитывая на нашу природную одаренность, обе мамы со второго класса начали готовить нас к поступлению в музыкальную школу. Раиса Федоровна (учительница по фортепиано) у нас с Ритой была общая, но дни занятий не совпадали. Какое-то время, правда, до покупки рояля, готовить задания меня водили к Рите. Отбарабанивая упражнение (одно и то же для обеих), мы орали придуманные под мелодию слова: «Здравствуйте, здравствуйте, как вы поживаете?» – «Я живу великолепно, живу очень хорошо!». Потом мама купила старенький рояль, угловатую прямострунку (кажется, фирмы «Wirt») – «для начала». С концом наших с Ритой совместных занятий мой «интерес» к музыке сменился упорным отлыниванием, тут же каравшимся суровой рукой. Через несколько лет прямострунку сменил кабинетный «Bechstein», мамина гордость. Пережив вдруг открывшееся во мне лихорадочное увлечение музыкой, все же он, после моего решительного расставания с Ленинградом и переезда мамы с дедом на Выборгскую сторону, тоже был продан. Добавлю, что, проведя около тридцати лет в общежитии, мама ни разу не пожалела о перемещении в отдельную, хотя и «хрущевскую» квартиру. Вот уж она-то ностальгией по оставленному жилью не страдала. Я же в своих «домашних» снах, из всего числа смененных затем квартир неизменно вижу себя в нашей первой, в два широких окна, комнате.
Ольгино
Последнее наше, предвоенное лето нам с Ритой удалось провести вместе на даче в Ольгино. Хотя Рита и жила (с бабушкой?) у другой хозяйки, выгуливались мы, конечно, вместе, под условным присмотром деда. В кочковатом вытоптанном леске, прорезанном, к тому же, «торфяной» одноколейкой (переходить которую нам запрещалось), нашей фантазии стоило немалого труда найти себе достойное занятие. Приняв одноколейку за государственную границу, мы занялись ловлей шпионов. Каждая личность, в любом направлении дерзнувшая пересечь рельсы, вызывала наше острое подозрение. И по возможности прослеживалась с запоминанием максимального числа примет. Конечно, некоторые «перебежчики» в немноголюдном поселке попадались нам и по нескольку раз – их мы записывали в резиденты.
«Картотека» пухла от прозвищ. Но главным ее украшением стал списанный с внутренней стороны колодезного сруба (враг хитер!) «пароль» из трех букв. Было скопировано и еще кое-что, явно не на русском языке, хотя писано кириллицей. Как-то на поочередно хранившийся у нас дневник напоролись наши мамы. Учинив по возможности деликатное дознание, они, вероятно, вздохнули с облегчением, убедившись в полной нашей невинности. Более того, мы с готовностью отвели их к колодцу, где они смогли ознакомиться с первоисточником. После визита к председателю сельсовета «пароли» в колодце чем-то закрасили, а нам запретили к нему приближаться. Страница в дневнике оказалась вырванной. Поняв крайнюю секретность добытых нами сведений, мы воздержались от каких-либо вопросов по этому поводу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: