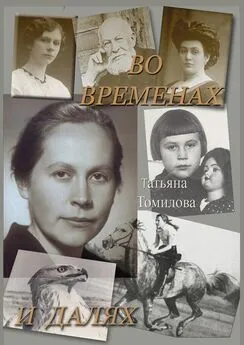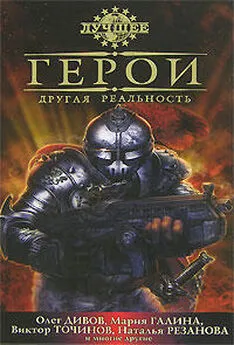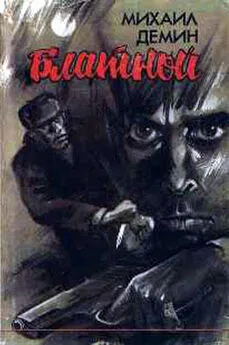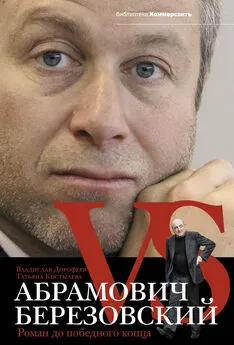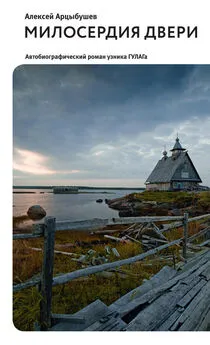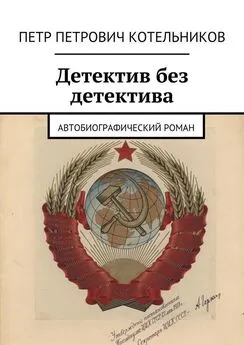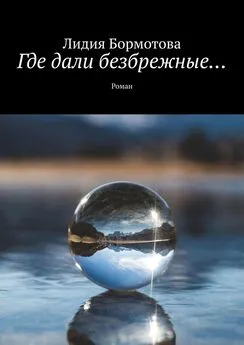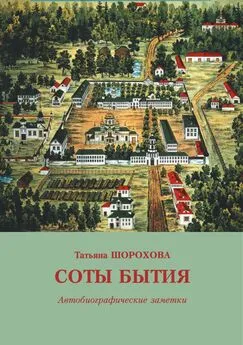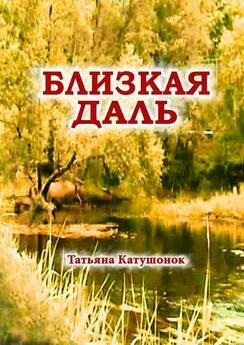Татьяна Томилова - Во временах и далях. Автобиографический роман
- Название:Во временах и далях. Автобиографический роман
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785448583247
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Томилова - Во временах и далях. Автобиографический роман краткое содержание
Во временах и далях. Автобиографический роман - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Переночевав у сочувствующей хозяйки, с утра пораньше я решила самостоятельно вернуться к фундаменту, чтобы ознакомиться с ним наедине. Но, как ни искала, не нашла! Пришлось опять обратиться к помощи В.Ф.. Отсюда мы направились к Залосемскому кладбищу на холме. Мне было показано несколько могил прежних владельцев имения. Кажется, какие-то могилы и были «Томиловскими», но, по причине незнания истории имения и времени его покупки нашим семейством, необходимых ассоциаций они не вызвали и потому принадлежность их мною уже забылась. Полагаю, здесь были похоронены члены семьи, жившие в Залосемье и поблизости от него. В первую очередь это могли быть мать Марии Карловны (мамина бабушка) и оба ребенка Вениамина. Показал В. Ф. и место, присмотренное им под собственную могилу. Хорошее место, привольное, над самым обрывом. Под венчающей холм церковью, оказывается, не однажды делались подкопы в поисках где-то зарытого в крутые времена церковного клада. Но, кажется, он и ныне там. Распростившись со своим проводником, я закончила день на озере, считая, что уж что-что, а берегов его не миновали посещения давнишних хозяев. И что вряд ли открывавшаяся перед ними панорама с тех пор сильно изменилась. В этом озерном краю залосемское озеро должно считаться совсем небольшим, но обойти его все-таки было бы не просто. Вода в его известняковой чаше оказалась вполне чистой. В случайно попавшемся мне журнале с приблизительным названием «Рыболовство и рыбное хозяйство» (где-то 50-60-ых годов) я нашла маленькое нечеткое фото озера, подписанное «Залосемское рыбоводческое хозяйство», без сопровождающего текста. Мама тоже, конечно, не смогла рассмотреть на нем ничего ей знакомого.
Вечером в Себеж меня отвез на мотоцикле, коротким путем, сын Веры Михайловны (Соколовой). Влетели мы в город, прямо к автостанции, вряд ли на допустимой скорости, но зато я успела к автобусу на Псков. Первое время мы с гостеприимной хозяйкой старались переписываться, но, видимо, из-за семейных переживаний общение получалось очень уж безрадостным. Пьющий сын В.М. попал в тюрьму. А Владимир Филиппович все никак не мог собраться навестить своего сына в Прибалтике. Думаю, что нынче покоится он на облюбованном месте над обрывом, так и не исполнив своего желания…
О детстве и блокаде
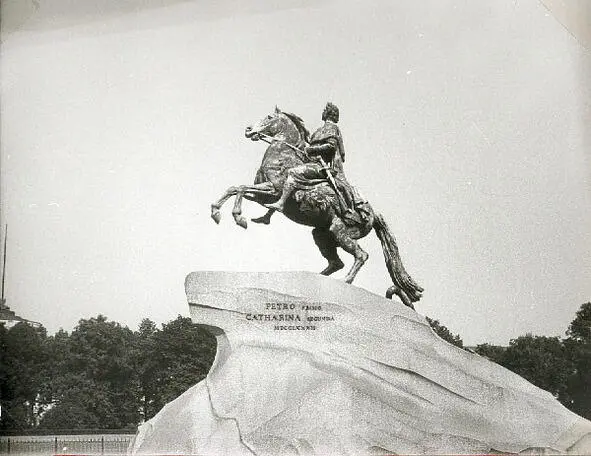
Клиника. Дом
Я родилась в Ленинграде в голодный, по свидетельству мамы, 1931 год, и выросла на четвертом этаже Второй хирургической факультетской клиники Первого Медицинского Института. После его окончания в этой клинике стажировались, как молодые хирурги, а затем закрепились врачами-интернами моя мама, Наталия Леонидовна Томилова и тетка, Елизавета Семеновна Драчинская (сестра моего отца, Петра Семеновича Драчинского, инженера-строителя по профессии). Глубины происхождения отца мне неизвестны. Знаю лишь, что мой дед с отцовской стороны, Семен Драчинский, переехав с семьей из Харькова в Москву, преподавал в Ветеринарной Академии. Профессорская дача в Кузьминках с подрастающими двумя сестрами и братом обычно полнилась молодежью. Обе мои тетки со вздохом вспоминали веселое время в прекрасном парке, теннис, крокет, городки, лодочные прогулки по прудам. Пешие походы обычно сопровождали коза и собаки. Высшее образование, однако, было решено получать в Петербурге. Старшую, Веру, поступившую в класс ваяния Высшего художественно-промышленного (теперь – Мухинского) училища, отец брал с собой в Париж для ознакомления со знаменитыми музеями. Младшая же, Лиза, более близкая отцовским интересам, поступила на курсы в Женском (позднее – Ленинградском) Медицинском Институте при Петропавловской (в советское время – имени Эрисмана) больнице.

Вторая хирургическая клиника
Возведение в 1912 году, по проекту финских архитекторов, нового здания хирургической факультетской клиники для этого старого, открытого еще в 1835 году медицинского учреждения, было спонсировано выпускницей Женских медицинских курсов г-жой Нобель-Олейниковой (о чем гласит недавно появившаяся на фасаде мемориальная табличка под бронзу). Показательное целесообразностью планировки и гигиены четырехэтажное здание оживлялось, помимо высоких окон, открытыми на юго-восток лоджиями-соляриями средних этажей и застекленным пролетом парадной лестницы. Полированные перила внизу заканчивались резным столбом с львиной мордой (столб этот, переживший тяготы революции и блокады, все-таки исчез во время ремонта на переломе веков). На север, во двор, выходили «черная» дверь и стеклянный амфитеатр операционной. В подвальном этаже размещалась котельная, питавшая клинику водой и теплом. Отдельный трехэтажный «флигель» во дворе (сейчас – институтский архив) заселял подсобный персонал.
Двор ограждали деревянные сараи, с которых зимой в наметенные сугробы прыгали местные мальчишки. Возле одного сарая разгуливали куры; мама покупала у их хозяйки яйца. Вдоль южного, более нарядного фасада был разбит сквер, в обиходе называемый «Цейдлер» – по фамилии одного из первых профессоров клиники. От улицы Льва Толстого (прежней Архиерейской) его отделяла островерхая решетка на высоком гранитном фундаменте. К началу моего детства саженцы успели превратиться во взрослые деревья, преимущественно – клены и несколько уже необъятных ив и тополей. Среди них были проложены дорожки со скамейками для моциона выздоравливающих пациентов. В сквер же выходила широкими ступенями третья дверь, обрамленная серым рустованным камнем, с маской на фронтоне.
С востока вся больничная территория была ограждена бетонной стеной, за которой параллельными рядами валов раскинулся обширный пустырь. Он именовался «Гренадеркой» в честь некогда проводившихся здесь военных учений гренадерского полка; зимой, особенно в каникулы, ближнюю гряду «штурмовала» лишь местная детвора. В отдалении желтели низкие Гренадерские казармы, растянувшиеся своими филиалами вдоль речки Карповки почти до больничной мертвецкой. Часть их занимал Институт кораблестроения, часть – студенческое общежитие. Стены давно нет, весь же казарменный комплекс, как памятник архитектуры начала XIX века, сохранен.
Речка Карповка, тонкий «рукавчик» Большой Невки, соединяет ее, подобно тетиве, с Невкой Малой, отделяя больничную территорию от Ботанического сада.

Сквер Цейдлер
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: