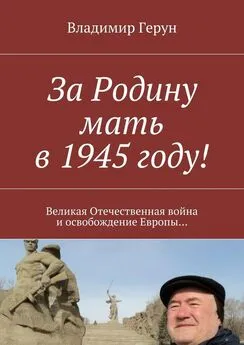Владимир Пичета - Отечественная война и русское общество, 1812-1912. Том II
- Название:Отечественная война и русское общество, 1812-1912. Том II
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издание Товарищества И. Д. Сытина
- Год:1911
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Пичета - Отечественная война и русское общество, 1812-1912. Том II краткое содержание
Вниманию читающей публики предлагается замечательный 7-томник. Замечателен он тем, что будучи изданный товариществом Сытина к 100-летней годовщине войны 12-го года, обобщил знания отечественной исторической науки о самой драматичной из всех войн, которые Российская империя вела до сих пор. Замечателен тем, что над созданием его трудилась целая когорта известных и авторитетных историков: А. К. Дживелегов, Н. П. Михневич, В. И. Пичета, К. А. Военский и др.
Том второй.
Отечественная война и русское общество, 1812-1912. Том II - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:

Пр. Евгений Вюртембергский (С.-Обена)
Балашов после своего доноса государю на Сперанского хотел, чтобы Санглен с ним познакомился, и когда тот уклонился, дал это поручение своему племяннику Бологовскому, который был дружен с Магницким. Государю донесли, что Бологовский ездит от Балашова к Магницкому, а от того — к Сперанскому; так как Бологовский был в числе заговорщиков 1801 г., а Александру I сообщили, что он воскликнул пред убийством Павла «voila le tyran», то ему будто бы показалось подозрительными сношения между Сперанским, Магницким, Балашовым и Бологовским, который «способен на все». Но если верить де-Санглену, государь сказал ему: «Нужно употребить Бологовского, чтобы их всех уничтожить». Бологовский уговорил Магницкого содействовать сближению Балашова со Сперанским, и есть известие, будто бы Сперанский согласился даже поехать к Балашову; но затем передумал и послал записку, что не может быть у него, а Магницкий переслал ее министру полиции, у которого в руках таким образом очутилось доказательство, что Сперанский готов был с ним сблизиться.
Между тем продолжали поступать доносы на Сперанского. В начале 1812 г. шведский наследный принц Бернадот сообщил, что будто бы «священная особа императора находится в опасности» и что Наполеон готов с помощью крупного подкупа опять укрепить свое влияние в России. Как на главу заговора в Петербурге, указывали на Сперанского и его доверенного Магницкого. Армфельт распускал явную клевету на Сперанского, будто бы тот сказал ему: «было бы потерей капитала тратить время и силы на голову императора» [138]. В дело годились все средства: не даром Армфельт сказал де-Санглену: «Знаете, что Сперанский, виновен ли он или нет, должен быть принесен в жертву: это необходимо для того, чтобы привязать народ к главе государства, и ради войны, которая должна быть национальной» [139].
Балашов уверял имп. Александра, что Сперанский состоит «регентом у иллюминатов». Армфельт тоже распространял вести, что Сперанский участвует в их ложе. О сношениях Сперанского с ними доносил государю и Ростопчин [140]. Он же сообщил о связях Сперанского с мартинистами и иллюминатами Екатерине Павловне. В «Записке о мартинистах», представленной ей в 1811 году, он говорит, что «они все более или менее преданы Сперанскому, который, не придерживаясь в душе никакой секты, а может быть, и никакой религии (?), пользуется их услугами для направления дел и держит их в зависимости от себя». Ростопчин обвинял мирных масонов-мартинистов в том, будто бы «они поставили себе целью произвести революцию, чтоб играть в ней видную роль», и уверял, что Наполеон «покровительствует им и когда-нибудь найдет сильную опору в этом обществе». Екатерина Павловна, вероятно, переслала эту записку императору Александру, так как 18 декабря 1811 г. он писал ей: «Ради Бога никогда по почте, если есть что-либо важное в ваших письмах, особенно ни одного слова о мартинистах». В числе слухов, передаваемых французским послом Лористоном после падения Сперанского, был и такой, что он глава секты иллюминатов и под предлогом преобразований хотел взволновать всю империю [141].
Ростопчин вообще был одним из главных врагов Сперанского. Государь однажды сказал Санглену: «Из донесения гр. Ростопчина о толках московских я вижу, что там ненавидят Сперанского, полагают, что он в учреждениях министерств и Совета хитро подкопался под самодержавие… Здесь, в Петербурге, он пользуется общей ненавистью и везде в народе проявляется желание ниспровергнуть его учреждение. Следовательно, учреждение министерств есть ошибка [142]. Кажется, Сперанский не совсем понял Лагарпа». И государь дал де-Санглену рукопись Лагарпа для сравнения с учреждением министерств [143]. Император Александр, если верить де-Санглену, стал раскаиваться и в других своих государственных преобразованиях: «Сперанский, — будто бы сказал он, — вовлек меня в глупость. Зачем я согласился на Государственный Совет и на титул государственного секретаря? Я как будто отделил себя от государства. Это глупо. И в плане Лагарповом того не было». Быть может, в связи с этим Сперанский в пермском письме доказывает неосновательность обвинения его в том, что преобразованием Государственного Совета он желал ограничить самодержавие.
В числе трех основных обвинений, выдвинутых против Сперанского государем в последнее свидание с ним, было: 1) что «финансовыми делами» он «старался расстроить государство», и 2) «привести налогами в ненависть правительство». По недостатку места я не могу говорить подробно о влиянии Сперанского в этой области, но все же необходимо сказать несколько слов об этом предмете.
Нужно прежде всего заметить, что план финансов, составленный Сперанским по поручению государя и внесенный в преобразованный Государственный Совет в первое же его заседание 1 января 1810 г., был выработан им сообща с проф. Балугьянским, Н. С. Мордвиновым, Кочубеем, Кампенгаузеном и товарищем министра финансов Гурьевым, который сделан был затем министром финансов. План этот был принят Государственным Советом и утвержден государем. Положение финансов было крайне тяжелое: по смете на 1810 г. предполагалось доходов 105 млн. руб., расходов — 225 млн., следовательно, предстоял дефицит в 120 млн. [144]; в обращении было 577 млн. руб. ассигнаций, курс которых быстро падал (в 1810 г. до 31, в 1811 г. до 25 коп. сер. за рубль ассигн.) [145], и, кроме того, было 100 милл. руб. иностранного долга. Приходилось или продолжать выпуск и без того обесцененных ассигнаций, или увеличить налоги [146]. Сперанский стоял за последнее, причем мог руководствоваться и той мыслью, что в этом случае будет скорее почувствована необходимость общественного контроля над финансовым ведением дел. Все находящиеся в обращении ассигнации признаны были государственным долгом.

Вел. кн. Екатерина Павловна (миниат. Дюбуа)
В мае 1810 г. был опубликован манифест об открытии внутреннего займа не более 100 млн. руб. асс., при чем объявлена была продажа некоторой части государственных имуществ, но эта последняя операция совершенно не удалась. В виду предстоящей войны с Наполеоном произведенное уже повышение налогов оказалось недостаточным, и потому манифестом 11 февраля 1812 г. подушная подать была «временно» повышена еще на один рубль, оброчный сбор с казенных крестьян увеличен на два рубля с души, а также и сбор с купеческих капиталов на 3 % [147]. Повышены некоторые пошлины, наконец, учрежден временный сбор с помещичьих доходов по добровольному их объявлению: низший сбор начинался с доходов в 500 руб. и равнялся 1 %, высший же составлял с 18.000 и более рублей — 10 %. Налог на дворян вызвал в их среде великое негодование [148].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: