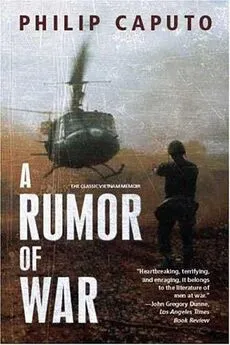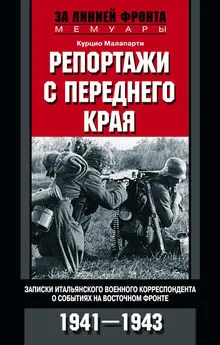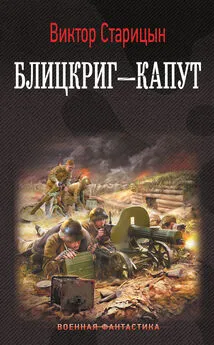Курцио Малапарте - Капут
- Название:Капут
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алгоритм-Книга
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:5-9265-0154-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Курцио Малапарте - Капут краткое содержание
Том 5 (кн. 1) продолжает знакомить читателя с прозаическими переводами Сергея Николаевича Толстого (1908–1977), прозаика, поэта, драматурга, литературоведа, философа, из которых самым объемным и с художественной точки зрения самым значительным является «Капут» Курцио Малапарте о Второй Мировой войне (целиком публикуется впервые), произведение единственное в своем роде, осмысленное автором в ключе общехристианских ценностей. Это воспоминания писателя, который в качестве итальянского военного корреспондента объехал всю Европу: он оказывался и на Восточном, и на Финском фронтах, его принимали в королевских домах Швеции и Италии, он беседовал с генералитетом рейха в оккупированной Польше, видел еврейские гетто, погромы в Молдавии; он рассказывает о чудотворной иконе Черной Девы в Ченстохове, о доме с привидением в Финляндии и о многих неизвестных читателю исторических фактах. Автор вскрывает сущность фашизма. Несмотря на трагическую, жестокую реальность описываемых событий, перевод нередко воспринимается как стихи в прозе — настолько он изыскан и эстетичен.
Капут - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В глубине двора были вытянуты в длину вдоль гаража десятки и сотни сельскохозяйственных машин, в большинстве выпущенных советскими заводами, но среди них было немало и венгерских, были также итальянские, а еще немецкие, шведские, американские. Русские, уходя, не сжигали колхозов, они не жгли также созревшей жатвы и полей подсолнечника, они не разрушали сельскохозяйственных машин, — они увозили тракторы, уводили лошадей, скот, вывозили фураж, мешки с зерном и подсолнечным семенем. Сельскохозяйственные машины они не трогали, даже молотилки, — они их оставляли на месте. Они довольствовались тем, что увозили тракторы. Рабочий, в синей спецовке, занимался тем, что смазывал большую молотилку, наклонившись над ее колесами и зубчатками. Я остановился посреди двора и смотрел издали, как он работает. Он смазывал свои машины, продолжал заниматься своим делом, как будто война была где-то далеко, как будто война даже и не коснулась Песчанки. После нескольких дождливых дней показалось солнце, воздух был теплым, лужи грязной воды отражали бледно-голубое небо, по которому пробегали легкие белые облачка.
В эту минуту немецкий офицер, из частей СС, вошел в колхоз. За ним следовало несколько солдат. Офицер остановился посреди двора. Расставил ноги и посмотрел вокруг. Время от времени он оборачивался и что-то говорил своим людям; тогда несколько золотых зубов поблескивали в его розовом рту. Внезапно он увидел рабочего, наклонившегося, чтобы смазать маслом машину, и позвал его: «Ду, комм хир! [152]»
Рабочий подошел, прихрамывая. Он тоже был хромой. В правой руке он держал большой английский ключ, а в левой — желтую медную маслёнку. Проходя мимо лошади, он что-то сказал ей вполголоса, и слепая лошадь потерлась мордой о его плечо и прошла за ним, прихрамывая, несколько шагов. Рабочий остановился перед офицером и снял свою шапку. У него были вьющиеся черные волосы, серое худое лицо, тусклые глаза. Это, несомненно, был еврей.
— Ду бист Юде, нихьт вар? [153] — спросил у него офицер.
— Нейн, их бин нейн Юде [154] , — ответил рабочий, почесывая голову.
— Что? Ты не еврей? Ты — еврей! Ты — жид! — повторил ему офицер по-русски.
— Да, я — еврей, да, я — жид, — ответил ему рабочий по-русски.
Офицер долго, молча, смотрел на него. Потом он медленно спросил: — А почему же ты только что ответил мне: «нет»?
— Потому что ты спросил у меня это по-немецки, — ответил рабочий.
— Расстреляйте его, — приказал офицер.
Рот Франка раскрылся в припадке сердечного смеха, и все сотрапезники громко хохотали, откидываясь на спинки своих стульев.
— Этот офицер, — сказал Франк, когда веселье за столом утихло, — ответил очень вежливым образом, тогда как он мог бы ответить гораздо хуже, нихьт вар? Но это был неумный человек. Если бы он был умным человеком, он, может быть, принял бы это за шутку. Я люблю остроумных людей, — добавил он по-французски, любезно наклоняясь, — а в вас много остроумия. Ум, интеллигентность, искусства, культура всегда на почетном месте в немецком Бурге Кракова. Я хочу восстановить в Вавеле итальянский двор эпохи Ренессанса, сделать из Вавеля остров цивилизации и любезности в сердце славянского варварства. Знаете ли вы, что я добился того, чтобы создать в Кракове польскую филармонию? Все члены оркестра, разумеется, поляки. Фуртвенглер [155]и Караян [156]приедут весной в Краков дирижировать целой серией концертов. Ах, Шопен! — воскликнул он неожиданно, поднимая к небу глаза и бегло пробежав пальцами по скатерти, точно по клавиатуре рояля. — Ах, Шопен! Ангел с белыми крыльями! Какое значение имеет то, что это польский ангел? В музыкальном небе есть место даже для польских ангелов. И все-таки поляки не любят Шопена!
— Они не любят Шопена? — спросил я, печально удивленный.
— Как-то раз, — продолжал Франк грустным голосом, — во время концерта, посвященного Шопену, публика Кракова не аплодировала — ни одного удара в ладони, выражающего порыв любви к этому Белому Ангелу музыки. Я смотрел на это огромное скопление народа, неподвижное и молчаливое, стараясь понять причину этого ледяного молчания, смотрел на эти тысячи блестевших глаз, эти бледные лица, еще согретые мимолетной крылатой лаской Шопена, смотрел на эти губы, еще розовевшие от печального и сладостного поцелуя белого Ангела, и искал в моем сердце извинения этой немой мраморной духовной неподвижности многочисленной публики. Ах! Но я завоюю этот народ при помощи искусств, поэзии, музыки! Я стану польским Орфеем! Ах! Ах! Ах! Польским Орфеем! — И он стал смеяться странным смехом, закрыв глаза, откинув голову на спинку своего стула. Он побледнел, он дышал с трудом, пот высыпал бисером на его лбу.
Но тут фрау Бригитта Франк, ди дойче кенигин фон Полен, подняла глаза и повернула голову к двери. В этот момент дверь открылась, и на огромном серебряном блюде появился лохматый дикий кабан, лежащий в засаде на ароматном ложе черники.
Это был кабан, которого Кейт, начальник протокола Польского генерал-губернаторства, застрелил из своего ружья в Люблинских лесах. Яростная голова лежала, словно в засаде, на ложе из черники, как на ложе из терновника в чаще, готовая броситься на неблагоразумных охотников, на всю их жестокую свору. По обе стороны его рыла виднелись клыки, белые и загнутые; на его спине, блестящей и покрытой каплями жира, на поджаренной, хрустящей коже, поднималась жесткая черная щетина. И я почувствовал в своем сердце неясную симпатию к этому благородному польскому кабану, этому животному — «партизану» люблинских лесов. В глубине темных глазниц блестело что-то серебристое и кровавое, свет холодный и пурпурный, нечто живое и таинственное, точно взгляд, горящий большим внутренним огнем. Тот же взгляд, серебристый и пурпурный, который я видел в глазах крестьян, дровосеков, польских деревенских работников на берегах Вислы, в лесах горной цепи Татр [157]в Закопане [158], на фабриках Радома [159]и Ченстохова [160], в соляных шахтах Велички.
— Ахтунг! [161] — сказал Франк и, подняв руку, вонзил в бок кабана широкий нож.
Быть может, виною было пламя, горевшее в большом камине, быть может, обилие еды и драгоценных вин из Франции и Венгрии, но я почувствовал, как краска заливает мне лицо. Я сидел за столом немецкого короля Польши, в большой Вавельской зале, в древнем благородном богатом ученом королевском городе Кракове, посреди маленького Двора этого наивного, жестокого, горделивого: немецкого перевоплощения итальянского сеньора эпохи Ренессанса, и меланхолический стыд заливал краской мое лицо. С самого начала ужина Франк принялся говорить о Платоне, о Марцилио Фицине [162], об Орти Орицеллари (Франк учился в римском университете он отлично говорит по-итальянски: с легким романтическим акцентом, в котором есть нечто от Гете [163]и Грегоровиуса [164]; он проводил целые дни в музеях Флоренции, Венеции, Сиены [165]; он знает Перуджи [166], Лукку [167], Феррару [168], Мантую [169]; он в восторге от Шумана [170], Шопена [171], Брамса [172], он божественно играет на рояле), затем о Донателло [173], о Полициане [174], о Сандро Боттичелли [175]. Разговаривая, он наполовину закрывал глаза, очарованный музыкой своих собственных слов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: