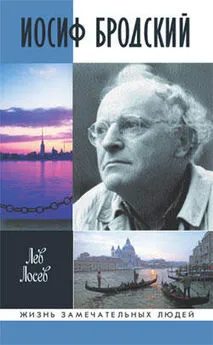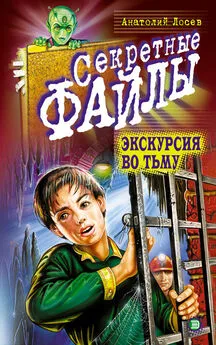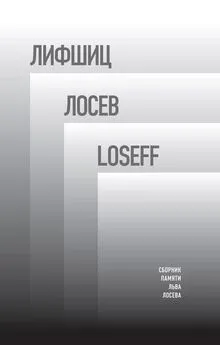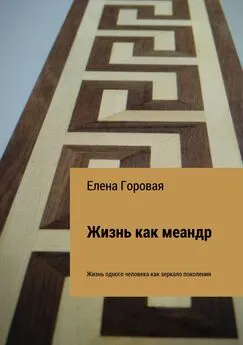Лев Лосев - Меандр
- Название:Меандр
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Новое издательство»
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98379-131-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Лосев - Меандр краткое содержание
Меандр - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Воображаемая география вымышленных городов! Есть известное место в «Записках из подполья», где Достоевский называет Петербург «самым отвлеченным и самым умышленным городом на свете», которое многие неправильно понимают, потому что прилагательное «умышленный» в современном сознании связано только с преступлением. Я убежден, что Достоевский употребил «умышленный» в том смысле, в каком ренессансные писатели употребляли слово «идеальный», то есть данный в идее. Это можно прочесть на музейных табличках под картинами с изображением странноватых городов – «Citta ideale», градостроительная фантазия.
В русском языке нет глагола «идеировать» от слова «идея», означающего ментальное действие идеями. В англо-русском словаре to ideate не переводится, но объясняется: «формировать идею, понятие, вынашивать идею», и дан хороший пример: «the state which Plato ideated». Петербург – город «which Петр I ideated». Процесс «формирования идеи», идеации Петербурга описан Пушкиным: «И думал он…» и т. д. Достоевский, с его пожизненным интересом к архитектуре, безусловно, не раз видел citta ideale в европейских музеях. Все города в стихах Иосифа идеальные, умышленные: «…за моей спиною… тянется улица, заросшая колоннадой… в дальнем ее конце тоже синеют волны Адриатики» («Вертумн») – это беглый взгляд то ли на ведут у Каналетто или Гварди, то ли на полотно де Кирико, но это и ur-город, элементарный кристалл, из которого в воображении разрастаются другие метафизические города его стихов. То, что сын фотографа часто создает эти города приемом двойной экспозиции – Флоренция-Петербург, Милан-Петербург, Венеция-Петербург, – объясняется не просто тоской по родному городу. Здесь есть более глубокий ностальгический мотив – тоска по мировой культуре, по всечеловеческим холмам (как великодушно интепретировал Мандельштам Версилова!). Ведь Петербург и был последним в Европе городом, идеированным, по крайней мере, в эстетическом плане, из наследия классической средиземноморской цивилизации.
Строя свои города, Иосиф сознательно отдавал предпочтение идеализирующему воображению перед памятью. По поводу своего стихотворения «На виа Джулиа» он говорил, что римская виа Джулиа: «Одна из самых красивых улиц в мире. Идет… вдоль Тибра, за палаццо Фарнезе. Но речь не столько об улице, сколько об одной девице… Как-то я ждал ее вечером, а она шла по виа Джулиа под арками, с которых свисает плющ, и ее было видно издалека, это было замечательное зрелище. Длинная улица – в этом нечто от родного города, и от Нью-Йорка…» [23] Бродский И. Пересеченная местность / Сост. и автор послесловия П. Вайль. М.: Независимая газета, 1995. С. 178.
Красавица приближается из перспективы увитых плющом арок по виа Джулиа, которая существует только в идеальном городе-кристалле с гранями отблескивающими то Римом, то Петербургом, то Нью-Йорком. На настоящей виа Джулиа всего одна арка – она соединяет крыло дворца Фарнезе и церковь Св. Марии, Молящейся за Мертвых, напротив. Далее тянется действительно довольно длинная, узкая и скучноватая улица.
И я когда-то жил в городе, где на крышах росли
статуи, и с криком: «Растли! Растли!» —
бегал местный философ, тряся бородкой,
и длинная мостовая делала жизнь короткой.
Иосиф позвонил и спросил, где Розанов призывает: «Растли! Растли!»
Я ничего такого вспомнить не мог. Вспомнил про целомудренную проституцию – насчет того, что незамужние девушки должны по вечерам выходить на улицу и благопристойно, с цветком в руках, ожидать мужчину.
Не то, ему надо было именно «Растли!». Я сказал, что перезвоню, и весь вечер внимательно, но безрезультатно листал Розанова. Не найдя призыва к растлению, я написал письмо большому знатоку Розанова, старому поэту Юрию Павловичу Иваску. С Иваском у нас как раз тогда была кратковременная переписка. Иваск прислал мне обличительное письмо: я неправильно квалифицировал какие-то сонеты в рецензии, между прочим, благожелательной, на книгу его еще более голубого приятеля, знатока китайского языка, жителя Рио-де-Жанейро, Валерия Перелешина (настоящая фамилия куда лучше бледного псевдонима: Салатко-Петрищев!). Я не сказал Иваску, зачем мне нужно было отыскать цитату, так как с Иосифом они были соседи в Массачусетсе, но отношения как-то не сложились. Иваск, к моему смущению, бурно расхвалил меня за то, что я интересуюсь Розановым, но сказал, что ничего похожего у Розанова нет. Все это я и доложил Иосифу. Но он оставил, как первоначально написалось. В память сердца он верил сильней, чем в печальную память рассудка. Я был бы рад, если бы кто-то, прочтя эти строки, посрамил бы меня и Иваска, указав том и страницу, где Розанов призывает: «Растли! Растли!»
Германское
Андрей Сергеев деликатно и верно объясняет странное среди других увлечений молодого Иосифа увлечение романтической стороной немецкого милитаризма. Разумеется, это было далеко в стороне от его основных интересов, так, чуть-чуть и не всерьез, ну и, разумеется, вермахт воспринимался в полной изоляции не только от нацизма, но и от военно-исторической стороны дела. К тоталитарной идеологии, идеологам-тиранам и рифмующимся с ними массовым баранам Бродский относился с отвращением и презрением. Но как-то в его воображении дистиллировался поэтический образ солдата со шмайсером на груди, тоскующего по своей девушке и т. п. Это было не так уж уникально. У Солженицына в «Круге первом» герой с сочувствием упоминает немецкую «Soldatentreue» (солдатскую верность). Не говоря уж о том, что среди самых популярных писателей эпохи был Ремарк, чьи романы замешены на Soldatentreue, эротике и жалости к загубленной молодой жизни. Еще в России Иосиф читал Курцио Мала-парте, его жесткую военную журналистику, столь отличную от риторики Эренбурга, Шолохова и Алексея Толстого. Ему уже взрослому нравились фильмы про войну. Он сам мне рассказывал, что на просмотре американского патриотического боевика «Самый длинный день» о высадке в Нормандии, когда в конце зазвучал американский гимн, он вскочил и слушал стоя. Не сомневаюсь, что это было отмечено всеми стукачами московского Дома кино. А Вероника вспомнила, как однажды они пошли в популярный ресторан в Париже, у дверей была очередь, они отстояли, но швейцар по своим швейцарским сображениям начал пропускать кого-то вперед. Вероника стала качать права, и швейцар слегка ее оттолкнул. Тут же ей пришлось хватать за руки Иосифа, который, рассвирепев, пытался расправиться с хамом, при этом крича (по-английски): «Забыл, подонок, что мы вас освободили!» В минуту гнева он уже не отделял себя от тех, кто высаживался в Нормандии. Но, видно, поэтика солдатчины казалась ему наиболее органичной у немцев. Можно рассматривать эти сентименты как привезенные из побежденной Германии военные трофеи, подобно фильму про Марию Стюарт с Зарой Леандер.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: