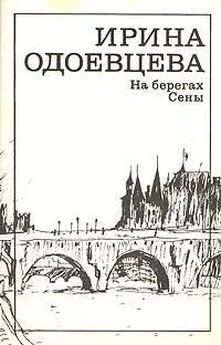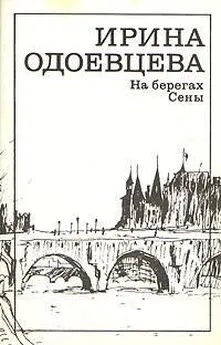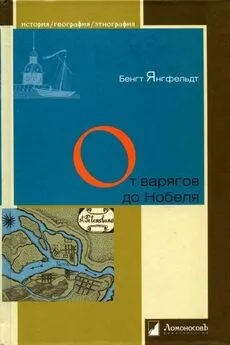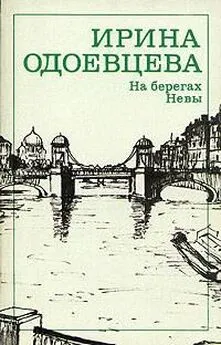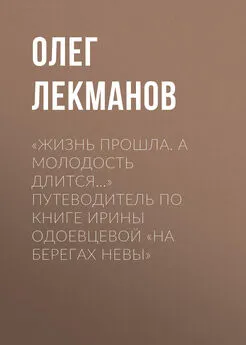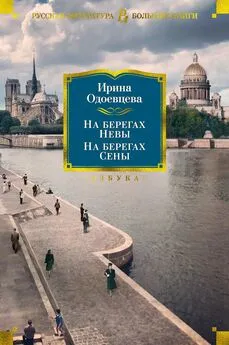Ирина Одоевцева - На берегах Невы. На берегах Сены
- Название:На берегах Невы. На берегах Сены
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Аудиокнига»
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-072034-7, 978-5-271-35751-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Одоевцева - На берегах Невы. На берегах Сены краткое содержание
Любимая ученица Николая Гумилева. Яркий человек, поэтесса и писательница. Но прежде всего – одна из лучших мемуаристок первой волны русской эмиграции, истинная свидетельница эпохи, под легким и острым пером которой буквально оживают великие поэты и прозаики Серебряного века.
В книгу вошла прославленная мемуарная дилогия Ирины Одоевцевой.
«На берегах Невы» – первая книга легендарных воспоминаний, посвященная жизни литературного, музыкального и художественного Петрограда в страшный, переломный, трагический период Октябрьского переворота и послереволюционных лет.
«На берегах Сены» – вторая книга воспоминаний, в которой писательница рассказывает о жизни «русского Парижа», о встречах с И. Буниным, И. Северяниным, К. Бальмонтом, З. Гиппиус, Д. Мережковским и со многими другими в годы, когда на берегах Сены писались золотые страницы истории искусства Русского зарубежья.
На берегах Невы. На берегах Сены - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Был синдик Сергей Городецкий, деливший с Гумилевым власть в Первом цехе поэтов, члены Цеха и аполлонцы – Осип Мандельштам, Мишенька Кузмин, Георгий Иванов и остальные. Ближе всех других ему был, пожалуй, Лозинский.
С ними всеми, как и многими другими, Гумилев был на ты. Он вообще, несмотря на свою «чопорность» и церемонность, удивительно легко переходил на ты.
С поэтами-москвичами отношения оставались более далекими – даже с теми, которых он, как Ходасевича и Белого, очень высоко ставил.
Тогда, в начале лета девятнадцатого года, я и мечтать не смела, что скоро, очень скоро я не только буду здороваться «за руку» с Гумилевым, но что Гумилев будет провожать меня домой.
В Студии занятия в отличие от «Живого слова» происходили не вечером, а днем и кончались не позже шести часов.
Только что кончилась лекция Гумилева, и я в вестибюле надевала свою широкополую соломенную шляпу, – несмотря на революцию, мы не выходили из дома без шляпы. И даже без перчаток. Перчаток у меня было множество – целые коробки и мешки почти новых, длинных бальных перчаток моей матери, сохранявшихся годами аккуратно, «на всякий случай». И вот действительно дождавшихся «случая».
Я перед зеркалом заправляла бант под шляпу и вдруг увидела в рамке зеркала рядом со своим лицом улыбающееся лицо Гумилева.
От удивления я не оборачиваясь продолжала смотреть в зеркало на него и на себя, как будто это не наши отражения, а наш общий портрет.
Это, должно быть, длилось только мгновение, но мне показалось, что очень долго.
Лицо Гумилева исчезло из зеркала, и я обернулась.
– Вы, кажется, – спросил он, – живете в конце Бассейной? А я на Преображенской. Нам с вами по дороге, не правда ли?
И не дожидаясь моего ответа, он отворил входную дверь, пропустив меня вперед.
Я иду рядом с Гумилевым. Я думаю только о том, чтобы не споткнуться, не упасть. Мне кажется, что ноги мои невероятно удлинились, будто я, как в детстве, иду на ходулях. Крылья за плечами? Нет, я в тот первый день не чувствовала ни крыльев, ни возможности лететь. Все это было, но потом, не сегодня, не сейчас.
Сейчас – я совершенно потрясена. Это слишком неожиданно. И скорее мучительно.
Гумилев идет со мной рядом, смотрит на меня, говорит со мной, слушает меня.
Впрочем, слушать ему не приходится. Я молчу или односложно отвечаю: «да» и «нет».
Кровь громко стучит в моих ушах, сквозь ее шум доносится глухой голос Гумилева:
– Я несколько раз шел за вами и смотрел вам в затылок. Но вы ни разу не обернулись. Вы, должно быть, не очень нервны и не очень чувствительны. Я – на вашем месте – не мог бы не обернуться.
Я еще более смущаюсь от упрека – поэты нервны и чувствительны, и он бы на моем месте…
– Нет, – говорю я. – Я нервна. Я очень нервна.
И будто в доказательство того, что я действительно очень нервна, руки мои начинают дрожать и я роняю свои тетрадки на тротуар. Тетрадки и листы разлетаются веером у моих ног. Я быстро нагибаюсь за ними и стукаюсь лбом о лоб тоже нагнувшегося Гумилева. Шляпа слетает с моей головы и ложится рядом с тетрадками.
Я стою красная, не в силах пошевельнуться от ужаса и стыда.
Все погибло. И навсегда…
Убежать не попрощавшись? Но я застыла на месте и бессмысленно слежу за тем, как Гумилев собирает мои записки и аккуратно складывает их. Он счищает пыль с моей шляпы и протягивает ее мне.
– Я ошибся. Вы нервны. И даже слишком. Но это пройдет.
Бывают головокруженья
У девушек и стариков —
цитирует он самого себя. – Наденьте шляпу. Ну, идемте!
И я снова шагаю рядом с ним. Он как ни в чем не бывало говорит о движении на парижских улицах и как трудно их пересекать.
– А у нас теперь благодать, иди себе по середине Невского, никто не наедет. Я стал великим пешеходом. В день верст двадцать делаю. Но и вы ходите совсем недурно. И в ногу, что очень важно.
Я не заметила, что иду с ним в ногу. Мне казалось, напротив, что я все время сбиваюсь с шага.
Возле пустыря, где прежде был наш Бассейный рынок, я останавливаюсь. Раз Гумилев живет на Преображенской, ему надо здесь сворачивать направо.
Но Гумилев продолжает шагать.
– Я провожу вас и донесу ваши тетрадки. А то того и гляди вы растеряете их по дороге.
И вдруг совершенно неожиданно добавляет:
– Из вас выйдет толк. Вы очень серьезно занимаетесь, и у вас большие способности.
Неужели я не ослышалась? Неужели он действительно сказал: «У вас большие способности. Из вас выйдет толк»?
– До завтра, – говорит Гумилев.
Завтра? Но ведь завтра у него в Студии лекции нет. Только через три дня, в пятницу. Не до завтра, а до после-послезавтра, но я говорю только:
– До свиданья, Николай Степанович. Спасибо!
Спасибо за проводы и, главное, за «из вас выйдет толк». Неужели он действительно думает, что из меня может выйти толк?
Я вхожу в подъезд нашего дома, стараясь держаться спокойно и благовоспитанно. Я не позволяю себе оглянуться. А вдруг он смотрит мне вслед?
Но на лестнице сразу исчезают моя сдержанность и благовоспитанность. Я перескакиваю через три ступеньки. Я нетерпеливо стучу в дверь – звонки давно не действуют.
Дверь открывается.
– Что ты так колотишь? Подождать не можешь? Пожар? Потоп? Что случилось?
– Случилось! – кричу я. – Случилось! Гумилев! Гумилев…
– Что случилось с Гумилевым?
– Гумилев меня проводил! – кричу я в упоенье. Но дома меня не понимают.
– Ну и?..
Как «ну и…»? Разве это не чудо? Не торжество?
Я бегу в залу, кружусь волчком по паркету, ношусь взад и вперед большими парадными, «далькрозированными» прыжками, чтобы как-нибудь выразить свой восторг. И вдруг на бегу поджимаю ногу и падаю навзничь. Этому меня тоже научила ритмическая гимнастика. Это совсем не опасно. Но мой отец в отчаянии:
– Сумасшедшая! Спину сломаешь. Довольно, довольно!.. Успокойся!..
Но я ничего не слышу. Я в экстазе, в пароксизме радости.
Такой экстаз, такой пароксизм радости я видела только раз в моей жизни, много лет спустя, в фильме «La ruée vers l'or» [5] «Золотая лихорадка» (фр.).
– Чаплин от восторга выпускает пух из подушек и, совсем как я когда-то, неистовствует.
Успокойся!.. Но разве можно успокоиться? И разве можно будет сегодня ночью уснуть? И как далеко до завтра, до после-послезавтра!..
Но уснуть все же удается. И завтра очень скоро наступает. И в Студии все идет совсем обыкновенно – лекция Чуковского. Лекция Лозинского. И вот уже конец. И надо идти по той самой дороге, где вчера…
Я нарочно задерживаюсь, чтобы одной возвратиться домой, чтобы все снова пережить. Вот тут, в вестибюле, он сказал: «Нам по дороге», – и распахнул дверь и снял шляпу, пропуская меня, будто я важная дама. До чего он вежлив и церемонен…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: