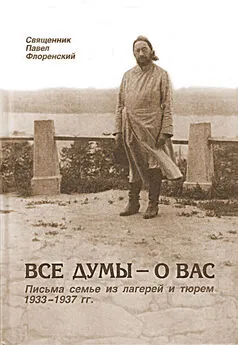Павел Флоренский - Детям моим. Воспоминания прошлых лет
- Название:Детям моим. Воспоминания прошлых лет
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Фолио»
- Год:2000
- Город:Харьков
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Флоренский - Детям моим. Воспоминания прошлых лет краткое содержание
Детям моим. Воспоминания прошлых лет - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Эта зоркость не была аналитическая, она не выделяла преувеличенно отдельных элементов, и главным, что видел я, была форма. Какие-то неизъяснимые наклонения во мне производили тонкие, еле уловимые от рациональных схем формы предметов. Были такие формы, относительно которых казалось, что вот какая-то несказанная волнистость в мире, чуть предчувствуемый упругий изгиб близки душе так, что живут в ней, как душа души, и что скорее от себя самого можно оторваться, нежели эти инфлексии форм станут хотя и красивым, но внешним зрелищем. Внутренняя моя жизнь в таких формах и других подобных впечатлениях покоилась более прочно и собиралась в очаги более оплотневшие, нежели во мне самом.
Очень ярким было восприятие цветов, с тонким различением цветовых оттенков. Но вместе с тем мне помнится, что моим любимым изящным по преимуществу был цвет голубой, тогда как в зеленом, когда он утепляется желтизною, я ощущал полноту всего особенного. Этот желто-зеленый цвет был для меня чем-то вроде инфракрасного, и за пределы его мой спектр в качестве красоты и мистики уже не простирался. Конечно, я видел и различал желтый; оранжевый и красный; но эти цвета относились к области неприличной. Любить их, восхищаться ими, углубляться в них, и даже замечать их, и говорить о них мне казалось грубым, невоспитанным, явным свидетельством дурного вкуса.
Я не думаю, чтобы причиною такого осуждения были какие-либо подслушанные суждения старших; во всяком случае, не только такие суждения имели силу. Да если бы я слушался в этом отношении старших, то в гораздо большей степени подвергся бы изгнанию цвет зеленый, относительно которого я твердо усвоил себе жизненное правило, что легче броситься в море и утонуть, нежели одеть зеленое платье.
Я знал, что приличен голубой цвет и синий, полуприличен розовый и совсем недопустим зеленый. Но в природе я признавал голубой и зеленый. Что же касается до обратного конца спектра, то там я предощущал связь и символику такого рода областей, аффектов, подъемов и волнений, которые разорвали бы небесную лазурь моего непрестанного экстаза. Сторонясь от красного конца спектра, бессознательно, но не бессмысленно я оберегал свою жизнь в первозданном Эдеме от угроз и опасностей. Не то ли же самосохранение заставило меня наложить жестокое табу на все слова и понятия, вполне невинные и даже как будто безразличные, но относительно которых я предчувствовал, смутно, но уверенно, что, спутавшись с ними, неминуемо поставишь себе и вопрос о каком-то познании добра и зла и об изгнании из рая? В самом деле, такое, например, слово, как деньгиили орденаразве не приводит к вопросам о службе, служебной прозе, подчинению и унижению, к борьбе и интригам? Похороны– разве не сталкивают они со смертью, со старостью, со злом, с невыносимым страданием разрыва? И все так, все «неприличное» припечатывает кувшин со злыми джиннами, недаром же засаженными туда премудрым царем. «Неприличное» есть знамение губительных для Эдема, разрушающих безмятежную лазурь духов природы. Пусть никто не смеет думать, будто тогда, трех, четырех, пяти, шести лет, я не понимал всего этого. И я, и всякий другой в таком возрасте бесконечно мудрее премудрого царя, и все сложнейшие жизненные отношения понимают насквозь, и, понимая, – припечатывают и предусмотрительно возбраняют вход в свою невозмутимую и безоблачную лазурь – изгородью из табу. Конечно, с годами мы все, когда-то гении и святые, грубеем, глупеем и опошляемся. У одного раньше, у другого позже появляется безразличие: пасть или не пасть – и змей-разрушитель оценивается просто как змея, хорошо, если не как уж. Грех, греховное отпадение от этой небесной земли – ну, так что ж, сделал – и ничего особенного. И мне хорошо представляется, Адам и Ева после грехопадения тоже, вероятно, сказали друг другу: «Ничего особенного», – сказали потому, что уже огрубели, уже утратили связь с тем Эдемом, который только что сиял перед ними неземной красотою. Но пока связь эта жива и пока зрение не померкло, панический ужас и инстинктивная брезгливость, исступленные и неудержимые, сотрясают душу и тело возле табу, предостерегающего об опасности. Каким-то задним зрением ребенок знает не только обопасностях, сторожащих по ту сторону ограды, но самые эти опасности; существоих он знает полнее и точнее, нежели самый искушенный жизнью закоснелый грешник. Никакое падение не открывает ему ничего нового, всегда оказываясь лишь убылью жизни, но не приростом ее. Ребенок владеет абсолютно точными метафизическими формулами всех запредельностей, и, чем острее его чувство эдемской жизни, тем определеннее и ведение этих формул. Про себя я, по крайней мере, могу сказать, что вся последующая жизнь мне не открыла ничего нового, кроме одного, – о чем будет сказано ниже, – но и то – открыла не познанию, а открыла смерти, после которой я уже стал не я. Все же знание жизни было предобразовано в опыте самом раннем, и, когда сознание осветило этот опыт, – оно нашло его уже вполне сформированным, почкою, полною жизни и ждущею лишь благоприятных условий распуститься. И я, как всякий ребенок, но, может быть, с большею цепкостью, оберегал свою непорочную землю от гибели и твердо знал, что допусти хотя бы одну-две трещины в изгороди, как весь сад погибнет. Задним зрением знал я все, но мудрость жизни была именно в разделении этого знания от прямого созерцания райской Красоты. Заботы родителей и детский инстинкт поддерживали друг друга, и, может быть, потому именно я даже преувеличиваю в своей памяти работу родителей в этом смысле и переношу на них часть собственных своих усилий.
В эти мысли пришлось взойти по поводу цветов. Но к тем же мыслям поводом могли бы быть и многие другие детские переживания. Как в цветах, одна их часть, пленительная и воздушная, вызывала восторг и то ощущение, которое испытываем мы во сне, летая, тогда как другая предоценивалась в качестве ядовитого огня и гибели, так же точно и в большинстве прочих ощущений: одни впивались мною жадно, упоенно, экстатично, на других лежала печать запрета. Но здоровый организм не допускает запретному стать искусительным – он просто не замечает запретного, волит его не замечать и обходит стороною как безразличное, почти не существующее. Папа курит свои скверные сигары, а мама надевает смешной корсет и турнюр. Я понимаю насквозь, как это нелепо, и твердо убежден, что втайне так же думают и они сами, не находя ничего хорошего ни в том, ни в другом. Но на то они и взрослые, чтобы делать глупости и плохо понимать их нелепость. Я их не осуждаю, ибо снисходителен к взрослым, уже многого не понимающим. Но было бы странно толковать мое нежелание курить сигары и носить турнюр как победу над искушением. Просто они мне не нужны, а если бы я прикоснулся к ним, то потерпел бы большой урон. В сущности, и сигары и корсет гадки до ужаса и, затаенно, страшны.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
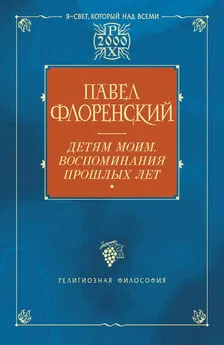
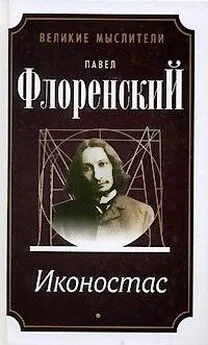

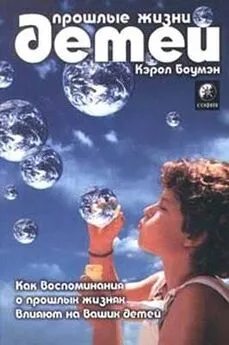
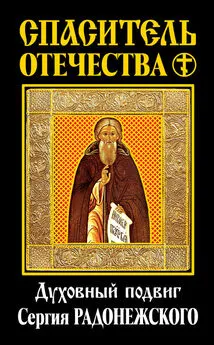
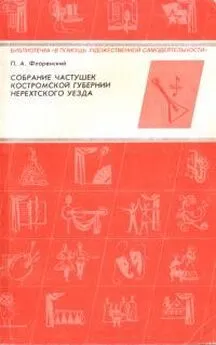
![Брин Бланкиншип - Безграничная душа. Подлинные воспоминания о прошлых, настоящих и будущих жизнях [калибрятина]](/books/1148232/brin-blankinship-bezgranichnaya-dusha-podlinnye-vospo.webp)