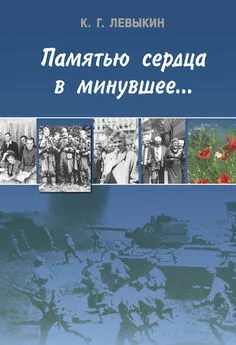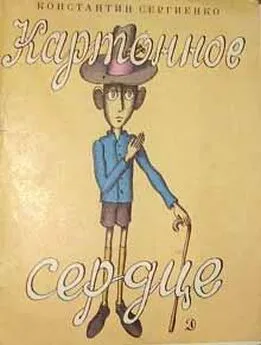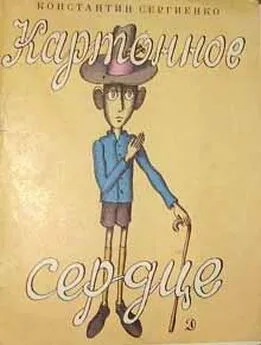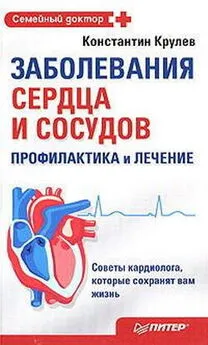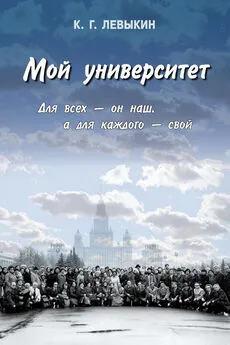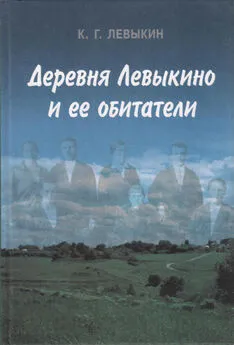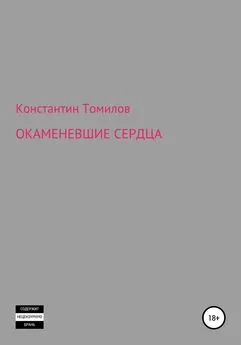Константин Левыкин - Памятью сердца в минувшее…
- Название:Памятью сердца в минувшее…
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Знак»
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:5-9551-0012-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Левыкин - Памятью сердца в минувшее… краткое содержание
Вторая часть книги посвящена воспоминаниям о Великой Отечественной войне, которую сам автор прошел солдатом. Свою солдатскую службу он начат добровольцем, участвовал в обороне Москвы, обороне и освобождении Северного Кавказа и Кубани. Войну автор закончит сержантом Отдельной мотострелковой дивизии им. Ф. Э. Дзержинского, в которой ему пришлось служить после боев на Кубани В составе парадного расчета этой дивизии 24 июня 1945 года старший сержант Левыкин принимал участие в Параде Победы на Красной площади.
Всему этому автор книги, историк, профессор К. Г. Левыкин дает объяснение и оценку.
Памятью сердца в минувшее… - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вторым из детей Трофимовых был сын Виктор. Он в те годы учился в каком-то техникуме. Мне он запомнился в клетчатой ковбойке на велосипеде с гоночным рулем. Кроме этого, он хорошо играл в волейбол и вообще имел вид спортсмена. Ни у кого из нас велосипеда тогда еще не было, и мы с завистью смотрели на завораживающий гоночный руль и любовались ловкой фигурой велосипедиста в ковбойке. Нам очень хотелось подружиться с Виктором. Когда он чистил или чинил свой велосипед, мы помогали ему. Но, увы, благодарности и внимания в награду не получали. Кумиром нашим поэтому Виктор не стал.
Младшей в семье Трофимовых была Тоня. В ней староверческого уже ничего нельзя было заметить. Она была общительна с подругами, соревновалась с ними в модном покрое платьев и юбок, соперничала в увлечениях ухажерами. Мне удивительно было спустя много лет увидеть ее похожей на свою мать, неразговорчивой и угрюмой женщиной. Может быть, это явилось результатом несчастливой доли вдовы с двумя сыновьями.
Вся семья Трофимовых была связана с фабрикой имени Ногина. Работали на ней родители. Туда же пошли работать и дочери. Только Виктору представилась возможность учиться в техникуме. Впрочем, и Тоне удалось, спустя некоторое время, закончить курсы медсестер.
Родители Трофимовы умерли, когда шла война. Их сын на фронт не попал. Рассказывали, что он вдруг заболел. Болел долго и безнадежно и уже после войны умер, не оставив наследников. А сестрам война уготовила долю вдов. Насколько я знаю, ни Дуськины, ни Тонькины (пусть не обидятся на меня мои бывшие соседки за старое общежитейское звучание их имен) сыновья не только не унаследовали и не сохранили законов и традиций старой веры, но так и не сумели узнать, что это такое. Они выросли в обычных дворовых хулиганов, а потом закономерно превратились в безнадежных алкашей. Деньги на пьяные развлечения они не всегда добывали «трудом своим». Говорили, что с Тонькиным Славкой опасно было встретиться темной ночью даже обитателям наших домов. Про Дуськиного сына я теперь ничего не знаю. А Тонькиным Бог не дал долгой жизни: так обычно говорят православные люди в подобных случаях. Но настоящая причина такого обрыва человеческого рода не в Божьей немилости, а в тяжести вдовьей доли матерей и сиротской обездоленности их детей в суровое лихолетье войны и в такие же полуголодные первые послевоенные годы. Оба сына Антонины Трофимовой даже вырасти в настоящих мужчин не смогли. Не познавши добра, они сами доброго совершить не сумели.
Чуть не забыл я еще одну очень тихую и незаметную семью в нашем доме, поселившуюся в общежитии одновременно с нами. Она состояла из двух человек – мужа и жены Добрицыных. Главу семьи, кажется, звали Ароном Яковлевичем. А имя его жены теперь никак не вспомню. Кажется, звали ее Галиной. Муж работал тоже помощником мастера на нашей фабрике, а супруга – в каком-то учреждении то ли бухгалтером, то ли канцеляристкой, то ли машинисткой. Очень скромная была пара. Жили они от нас через стенку. Были тогда, в начале тридцатых, еще молодоженами. Ходили всегда парой, под ручку. Жили молодожены тихой скромной жизнью и очень были внимательны друг к другу.
В 1932 году у них родился сынок. Тогда еще поблизости от нас родильного дома не было. Не было и телефонов-автоматов. А роды, как ни ожидал, как ни готовился к ним Арон Яковлевич, начались внезапно. Моя Мама к этому времени среди общежитейского населения имела популярность повивальной бабки. Ночью Арон Добрицын постучался к нам в дверь. Был он растерян и испуган. Мама все поняла без слов и отправилась принимать роды. На ее руках издал свои первые звуки еврейский мальчик Феликс.
После войны я увидел Феликса уже взрослым студентом Финансового института. А родители его, как мне показалось, так и не изменились с тех пор. Арон Яковлевич молодым, по-моему, никогда не был. Он запомнился мне в каком-то постоянном средневозрастном состоянии. И Галя долго не старела. По-прежнему они ходили парой, под ручку. И по-прежнему все силы своей родительской души и скромные результаты труда своего отдавали сыну. А он вырос у них румянощеким, хорошо вскормленным эгоистом. Может быть, я несправедлив к нему, но не нравился мне этот молодой человек, потому что не видел я в его поведении достойного уважения к родителям. Мне казалось, что он стеснялся их бедности. Меня он узнавал или делал вид, что узнает. А отец его, Арон Яковлевич, очень искренне обрадовался, увидев меня, вернувшегося с войны, живым, и каждый раз при встрече приветствовал дружеской улыбкой. Он очень искренне уважал моих родителей. Поэтому и я не забыл о нем и о его тихой и скромной жизни.
Основную часть населения нашего общежития составляли молодые незамужние девушки, недавно приехавшие в Москву из разных мест, в большинстве из деревень. Всех их звали «моталками». Общее это прозвище было связано с назначением машины, на которой они работали. Профессию чулочниц они все начинали с простой операции на мотальной машине, перематывающей нить на бабины. Поэтому за ними и закрепилась такая, не очень благозвучная коллективная кличка.
По разным причинам уезжали в конце двадцатых – начале тридцатых годов из крестьянских хат, изб и домов эти девушки от родительского тепла и ласки и поселялись на неласковых железных койках, в наскоро собранных бараках на далеких и необжитых окраинах Москвы. Большинство из них уходили из деревень от нужды в многодетных семьях за лучшей долей с надеждой найти свою судьбу. Не все они сразу устраивались на фабрики, заводы или на стройку. Многие по протекции своих односельчан или родственников, ранее освоившихся в городах, устраивались в качестве прислуги в городские семьи. Нужда в них тогда была большая. Они нанимались не только в зажиточные семьи. Чаще их нанимали в семьи отнюдь не обеспеченных горожан по причине того, что молодым родителям не на кого было оставить малолетних детей. Все члены таких семей были заняты на работе. В няньках особенно нуждались молодые семьи, в бюджетах которых едва-едва сводились концы с концами. Молодые инженеры, работники различных учреждений, а порою и просто рабочие и работницы фабрик и заводов, только что начавшие самостоятельную семейную жизнь, вынуждены были из своей тощей заработной платы тратить деньги на няньку, как только у них появлялись дети. Я видел такие семьи. Их было много в наших окрестностях, в наших деревянных фабричных и заводских новостройках. Убегая от нужды, а порой просто от голодной жизни, деревенские девушки, оказавшиеся няньками в таких семьях, испытывали вместе со своими хозяевами не меньшую нужду и лишения. Зарплату они получали мизерную. А иногда работали только за еду на одном с хозяевами скудном столе, да за их обещания устроить бедолагу по прошествии некоторого времени на свой завод, фабрику или в учреждение, в уборщицы, с условием, что она будет продолжать ухаживать за их ребенком в так называемое нерабочее время. По этой дорожке в городскую жизнь пришли наши левыкинские Парани, Нюшки, Соньки и Маньки. Такой же дорогой приходили на московские фабрики и заводы девушки из других деревень в годы героических трудовых пятилеток строительства социализма.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: